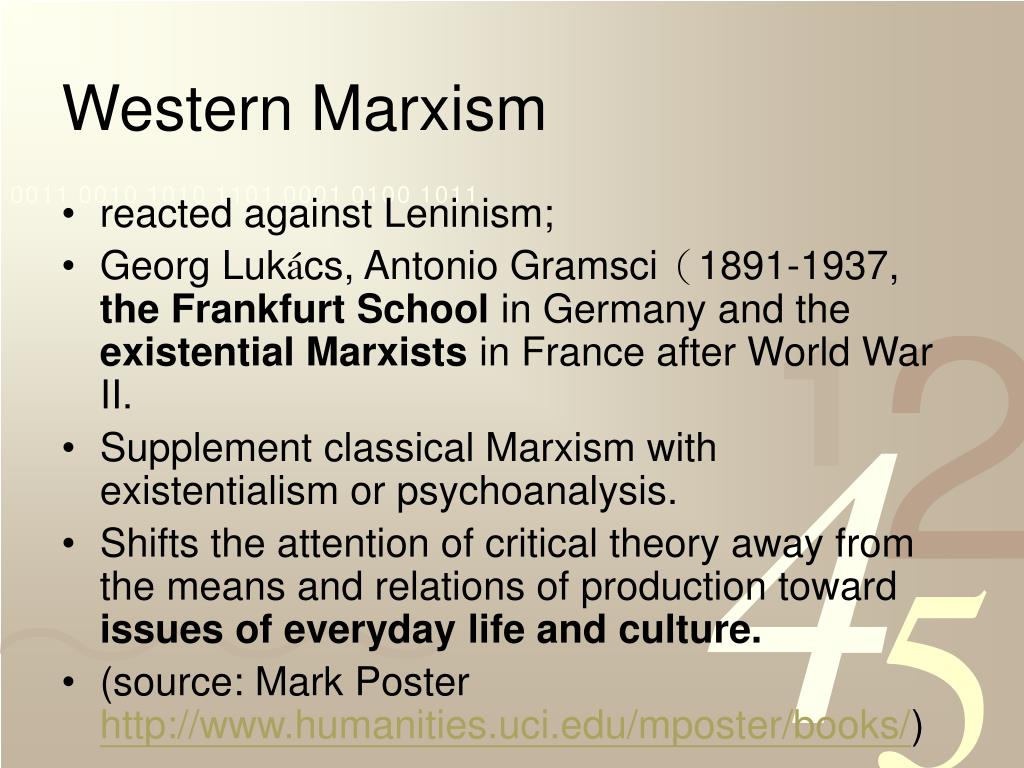Оригинал статьи был первоначально опубликован на сайте Ревкульт
Автор: Роман Тиса
Марксизм после Маркса
Оглавление
Парадоксальной была судьба марксизма в XX в. в Советском Союзе – в стране, где правящая коммунистическая партия провозгласила марксизм официальной доктриной, – он на протяжении долгих десятилетий выхолащивался, фальсифицировался и превращался в подобие государственной религии. Замалчивались труды не только западных философов-марксистов, но и русских революционеров большевиков. Вместо того, чтобы культивировать полемику и международный обмен мнениями о насущных вопросах современности, в СССР выдавали и переиздавали «священное писание» – полные сборники произведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина с «приложениями» – бесконечными толкованиями «священного писания». Между тем на Западе, где марксистские партии проиграли борьбу за власть, продолжалась оживленная дискуссия, рождались, обсуждались, развивались или отвергались новые идеи.
В то время, как сам Карл Маркс уделял основное внимание выявлению экономических законов капитализма, «западные марксисты» – хотя и не пренебрегали политической экономией полностью – свое главное внимание сосредоточили на вопросах метода, теории познания, государственного устройства, форм политической борьбы, культуры, психологии и т.д. Однако кажущегося на первый взгляд противоречия между Марксом и его последователями в XX веке здесь нет. В 1932 увидели свет «Экономическо-философские рукописи 1844 года» (написаны в апреле-августе 1844 г.) – неизвестное ранее произведение молодого Маркса (на момент написания ему было 26 лет), и мир увидел, что в центре этого произведения стоит не только проблема капиталистической эксплуатации, как в «Капитале» (1867 г.) и других его поздних книгах, но также проблема отчуждения, вызванного властью капитала над человеческим обществом. Так, в начале 1930-х гг. оказалось, что Маркс не только критик политэкономии, но также философ- гуманист, и именно эта сторона его теоретического наследия привлекла внимание многих «западных марксистов». Само понятие «западный марксизм» в 1950-х гг. ввел в оборот французский философ Морис Мерло-Понти (он и сам пережил влияние марксизма и некоторое время был членом Французской коммунистической партии).
У истоков «западного марксизма» стояли три теоретика, которых объединяют две вещи, несмотря на различия их идейной эволюции и политической судьбы: они пришли к марксизму после Первой мировой войны и в зрелом возрасте. Эти трое – венгр Дьёрдь Лукач, немец Карл Корш и итальянец Антонио Грамши. Их приход к марксизму и приобщение к пролетарскому коммунистическому движению состоялись в драматический период мировой истории, что ознаменовалось рядом важных событий: поражением социал-демократии в Первую мировую войну, победой пролетарской революции и началом социалистических преобразований в России, поражением рабочего движения и возникновением фашизма в Европе.
Лукач: классовое сознание и ошибочное сознание
Дьёрдь (Георг) Лукач родился в зажиточной семье. Его отец был не только богатым банкиром, но и влиятельным человеком с широкими связями, в 1899 году он даже получил баронский титул с правом передавать его по наследству. С 1902 по 1909 Лукач учился в Будапештском королевском университете, где получил степень доктора юриспруденции и доктора философии. В 1906-1913 гг., во время учебы в университетах Берлина и Гейдельберга, он дружил с ведущими немецкими интеллектуалами начала XX в.: с Георгом Зиммелем, Максом Вебером, Штефаном Георгом и Эрнстом Блохом. В 1917 г. вместе с друзьями организовал в Будапеште «Свободную школу наук и духа», в ее работе среди прочих принимал участие известный композитор Бела Барток. Взгляды Лукача этого периода можно охарактеризовать как объективный идеализм. На его переход к марксистским позициям повлияла Первая мировая война и вызванный ею общий кризис европейской культуры. Главными произведениями молодого Лукача были литературоведческие исследования – сборник «Душа и форма» (1910) и очерк «Теория романа» (1916).
В декабре 1918 г. Лукач вступил в ряды Коммунистической партии Венгрии и вошел в ее центральный комитет. Во времена Венгерской советской республики (март-август 1919) был сначала заместителем народного комиссара просвещения и культуры, а позже – политическим комиссаром 5-й дивизии, воевавшей на Северном фронте. Падение республики и последовавший за ней «белый террор» вынудили Лукача бежать за границу: с 1919 по 1930 он жил в Вене, с 1930 по 1933 – в Берлине, с 1933 по 1945 – в Москве. Еще в Вене Лукач издал «Историю и классовое сознание» (1923 г.), сборник статей и очерков 1919-1922 гг., которому было суждено стать самой известной его книгой. В московской эмиграции Лукач написал «Исторический роман» (1937, книга вышла в 1954 г.) и «Молодого Гегеля. Об отношениях диалектики и политэкономии» (1938, впервые опубликована 1948).
По завершении Второй мировой войны Лукач вернулся в Венгрию. Во время народного восстания 1956 г. недолго исполнял обязанности министра культуры в правительстве Имре Надя. После подавления восстания Советской Армией Лукача вместе с другими членами правительства депортировали в Румынию. Вернувшись на Родину в 1957 г., он посвятил себя исключительно теоретической работе над вопросами эстетики и философии: закончил четырехтомную «Эстетику» (1962) и не успел завершить «Онтологию общественного бытия» (1971 г.) – оба произведения вышли в свет уже после смерти автора.
В статьях и очерках «Истории и классового сознания» Лукач утверждал, что благодаря видению целостности (тотальности) и сосредоточености на центральности товарного производства марксизм является лучшим методологическим инструментом критического анализа современного капиталистического общества и способен открыть пролетариат как силу, способную на революционное преобразование общества. Индивид никогда не сможет стать мерой философии или, уж тем более, освободительной силой, поскольку он окружен готовыми, «рожденными» до него и неизменными для него объектами, а это делает возможным лишь субъективные реакции – либо конформистское признание, либо нигилистический отказ. Только класс может полнотью охватить действительность в процессе ее революционного преобразования при условии освобождения ее членов из-под «чар» овеществленной объективности.
Диалектика буржуазного классового сознания основывается на противоречии между капиталистическим индивидом и «естественно-необходимым» – то есть неподвластным сознанию – развитием. Эта диалектика приводит к взаимному противопоставлению теории и практики, причем, это противопоставление не допускает никакого успокаивающего дуализма, но постоянно ищет пути сочетания разорванных принципов, порождает метания между «ошибочной» связью теории с практикой и катастрофическим их разрывом. Этот разрыв проявляется, как писал Лукач, в «антиномиях буржуазного мышления».
Положение буржуазии определяет функцию классового сознания в борьбе за овладение обществом. Господство буржуазии простирается на все общество, и она стремится организовать общество так, чтобы эта организация полностью отвечала её интересам. Вот почему буржуазия должна не только создать целостное учение об экономике, государстве, обществе, но также воспитать в себе сознательную веру в собственное призвание к господству и организации. Драматизм классового положения буржуазии проявляется в том, что ей совершенно необходимо приобрести отчетливое осознание своих классовых интересов, но это приобретение становится для нее роковым, как только это осознание подходит к вопросу об общественном целом. Дело в том, что власть буржуазии может быть только господством меньшинства, и поскольку ее власть осуществляется не только меньшинством, но и в интересах меньшинства, необходимым условием существования буржуазного режима является обман других классов и сохранение туманности их классового сознания. Этому служит и учение о государстве: оно якобы стоит «над» классовыми противоречиями, [вершит] «надпартийное» правосудие и тому подобное. Однако сокрытие сути буржуазного общества оказывается жизненной необходимостью и для самой буржуазии. Ведь чем яснее становится эта суть, тем нагляднее раскрываются внутренние, неразрешимые противоречия этого общественного строя. Она ставит его сторонников перед тяжелым выбором: либо сознательно пренебрегать знанием капитализма, либо подавить в себе все нравственные инстинкты и одобрить этот общественный строй.
В течение десятилетий, предшествовавших Первой мировой войне, в акционерных обществах и трестах концентрировалось капиталистическое производство. Хотя эта концентрация все яснее проявляла общественный характер капитала, она не ставила под сомнение факт его производственной анархии, а только предоставляла отдельным крупным капиталистам относительно монопольное положение. Кроме того, хотя концентрация капиталистического производства утверждала общественный характер капитала, буржуазия не понимала этого характера: сознание капиталистов под влиянием видимости преодоления производственной анархии в рамках одной монополии удалялось от истинного понимания характера производства. После мировой войны передовые элементы буржуазии прониклись идеей «плановой экономики». Если сравнить это состояние сознания, при котором происходил поиск экономического компромисса между «плановой экономикой» и классовыми интересами буржуазии, с состоянием восходящего капитализма, который любой способ общественной организации рассматривал как покушение на неприкосновенные права собственности и свободы отдельного капиталиста, то станет очевидным капитуляция классового сознания буржуазии перед пролетарским классовым сознанием.
Точка зрения пролетариата является особенной, поскольку он выступает объектом-субъектом истории. Только эта точка зрения позволяет наблюдать, как капиталистическое общество порождает «овеществление» – превращение человеческих свойств, отношений и действий в свойства, отношения и действия рукотворных вещей, которые отделяются от человека и начинают господствовать над ним. Овеществление – крайнее, но весьма распространенное проявление отчуждения. Оно приводит к тому, что люди начинают восприниматься как вещи или абстрактные понятия, а те в свою очередь заслоняют место людей и начинают восприниматься как живые существа. Это происходит во всех сферах общества – от культуры до производства.
При капитализме все общественные отношения (даже половые отношения) пропитаны экономическими императивами и подчиняются экономическим законам. Единственным решением проблем буржуазного общества является пролетарская революция и социализм. Коммунистическая партия является формообразующей пролетарского сознания, то есть практическим воплощением стремлений пролетариата осознать себя и свои классовые интересы. Благодаря своему особому положению «живого возражения капитализму» пролетариат является единственным классом, способным получить настоящую классовую сознательность – осознать свою историческую роль революционного субъекта. Классовое сознание не дается рабочему при рождении, однако оно приобретается в постоянной борьбе с диктатом буржуазной идеологии. Только пролетариат способен увидеть, что «вечные законы экономики» является ничем иным, как продуктом исторического развития, результатом коллективного действия индивидов, а значит, их можно изменить через сознательное действие. Любые другие общественные классы, в том числе буржуазия, обречены на «ложное сознание», что удерживает их от понимания тотальности истории и создает иллюзию вечности и универсальности отдельного исторического этапа – капитализма. Носители ложного сознания воспринимают капитализм как нечто естественное и объективное, тогда как на самом деле это лишь преходящий эпизод истории.
Буржуазия не способна осознать историю, ведь она воспринимает ее как разыгрывающуюся только внутри сферы действия вечных общественных форм, где происходят изменения сюжетов, людей, ситуаций, но принципы общества остаются вечно неизменными. Поскольку исходной точкой и целью буржуазного мышления является постоянная, пусть не всегда осознанная, апология истинного положения вещей – она не может овладеть сущностью исторического процесса. Вот почему история кажется буржуазному мышлению неразрешимой задачей; в одном случае она полностью отрицает исторический процесс и объясняет организационные формы современности как вечные естественные законы, которые в былые времена из-за «тайных» причин, несовместимых с принципами рациональной науки, или совсем себя не проявляли, или проявляли не полностью, а в другом случае – исключает из истории все логичное и целесообразное, останавливаясь на самой «индивидуальности» исторических эпох, на их общественных и человеческих носителях. Все исторические эпохи переживают одинаковые циклы и достигают одинаковой степени совершенства, а значит, что исторического развития не существует: история – поле действия вечных и неизменных природных законов или неразумное господство слепых сил, причем, это господство воплощается в «народных духах», в образах «великих мужей» и тому подобное.
Естественно, что буржуазная наука оспаривает возможность влияния на действительность для пролетариата. Равно как феодально-средневековая идеология выдумала вневременные отношения между человеком и богом, так и буржуазная идеология сконструировала вневременную «социологию», согласно которой основополагающие формы существования буржуазного общества постулируются как формы существования как прошлого общества, так и будущего – даже после социальной революции. Для пролетарского мировоззрения, как для инструмента революционной практики, важнейшим вопросом является освобождение от такого созерцательного отношения к действительности. Это означает исследование конкретной роли, доставшейся пролетариату как субъективному фактору истории, и прояснение функции, которой наделено классовое сознание пролетариата в историческом процессе.
Лукач переосмыслил понятие «ортодоксальный марксизм»: так он называл не верность догмам, не некритическую «веру» в тот или иной тезис «основоположников» (Маркса и Энгельса), не толкования «священных» книг, не сохранение «традиций», а научное применение и развитие марксистского метода, диалектического материализма, в конкретно-исторических условиях. В диалектическом материализме найден правильный метод исследования, и только в духе его основоположников этот метод может развиваться, продолжаться и углубляться.
Корш: марксистская критика марксизма
Карл Корш (1886-1961), выходец из семьи «среднего класса», изучал право, экономику и философию в Йене, Берлине, Мюнхене и Женеве. Получив степень доктора права, 1912-1914 гг. он провел в Англии, где совершенствовал знания английского языка и международного права, а также участвовал в работе «Фабианского общества». Первая мировая война вернула его на родину. Корша на четыре года забрали в армию, он был на фронте, но, исходя из пацифистских убеждений, оружие в руки не брал. Был дважды ранен, повышен и разжалован в звании. За боевые заслуги был награжден Железным крестом 1-й степени.
По окончании войны и с началом германских революции 1918-1919 гг. Корш участвовал в работе правительственной комиссии по обобществлению промышленности, вступил в Независимую социал-демократическую партию Германии и писал для ее газет. После слияния независимых социал-демократов и немецкой компартии (1921) Корш стал коммунистом и представлял компартию в Туринском ландтаге, а в 1924-1928 гг. – в Немецком рейхстаге. В эти годы он много писал на политические и теоретические темы, выступал как агитатор советского рабочего движения, работал редактором теоретического органа компартии «Интернационал». Именно в этот период вышел его самое известное произведение – статья «Марксизм и философия» (1923 г.). Недовольство Корша все большим оппортунизмом III (Коммунистического) Интернационала, а также будучи лучше знакомым с марксистской теорией, нежели партийные идеологи, привело к конфликту, закончившемуся в 1926 году исключением из партии.
Начиная с 1928 г.. Корш – теперь уже независимый коммунист – сотрудничал с небольшими левыми группами, продолжал писать, ездил с лекциями по Европе, подготовил новое издание 1-го тома «Капитала» с собственным предисловием. Дружил с писателем и драматургом Бертольдом Брехтом: их переписка продолжалась до начала 1950-х гг. С приходом к власти Гитлера Корш был вынужден покинуть Германию, переехав сначала в Англию, затем в Данию, а затем в США. В Англии он написал книгу «Карл Маркс», вышедшую в 1938 году в серии, посвященной современным социологам. В США Корш эпизодически преподавал и углублял свои знания марксистской теории, что в конце концов привело его к убеждению в необходимости преодолеть марксизм и заменить его новым революционным учением. Последние годы его жизни прошли под знаком психической болезни.
Весомым вкладом Корша в развитие революционной теории стала статья «Марксизм и философия». В ней он поставил вопрос о необходимости переосмыслить все развитие марксизма, начиная от немецкой идеалистической философии, как продукта конкретной исторической эпохи. По Коршу, марксизм пережил три больших этапа: рождение как философской системы (1843-1848 гг.), распад на политическую экономию, политику и идеологию (1848-1900 гг.), превращение в «научный социализм» и потерю непосредственной связи с политической борьбой (после 1900). Немецкий теоретик выступил против понимания исторического материализма как «позитивной науки», которую не обязательно связывать с борьбой пролетариата и из которой, в целях «объективного исследования», можно удалить важнейшую ее составляющую – классовую борьбу. Несмотря на противопоставление «научного социализма» «утопическому социализму», закрепившемуся во II-ом (социалистическом) Интернационале, марксизм не является наукой в буржуазном смысле этого слова. Марксистская система призвана не обогатить буржуазную философию, историю или социологию новыми открытиями, а критиковать буржуазную теорию и практику с целью разоблачения их несоответствия друг другу, а также с целью поиска путей коренных изменений материальных условий жизни и общественных отношений. Это не означает, что философией вообще и философской составляющей марксизма в частности надо пренебрегать. Наоборот – изменение мира заключается как в практической, так и в теоретической борьбе против буржуазного общества, включая также борьбу в области философии. Просто теоретическая борьба, чтобы играть свою важную роль, не должна отрываться от борьбы практической, не должна отделяться от практического преобразования мира.
Пересмотр Коршем отношений между марксизмом и философией произошел не из абстрактного интереса к философии, но из необходимости «освободить» распространённый в то время вариант марксизма от догматических ограничений. Это стало теоретическим продолжением нового революционного движения, порожденного войной и революцией. Революционное движение в Европе, начавшееся с Октябрьской революции, видело себя продолжателем «аутентичного» марксизма. Представители революционного движения боролись под лозунгом «Вся власть советам!», что выражало желание классово сознательного пролетариата положить конец капиталистическому обществу. Даже если в России между идеей советов и ее практическим воплощением, писал позже Корш в «Истории марксистской идеологии в России» (1932 г.), очень быстро образовалась пропасть, это еще не значит, что надо уклоняться от революционных решений в экономически незрелых странах, даже если политически они к таким решениям созрели. История развивается, и ситуация может измениться. Если бы пролетарская революция победила на Западе, она, возможно, способствовала бы созданию условий, необходимых для социалистического развития в промышленно неразвитых странах. Однако в 1921 году европейская революционная волна начала утихать, а вместе с ней начала умирать и надежда на мировую революцию. Контрреволюции на Западе суждено повлиять на характер Российской революции, ее ограниченность национальных границ уменьшила ее революционный потенциал и способствовала превращению в одну из составляющих международной контрреволюции. По иронии истории, большевистский режим смог удержаться у власти только благодаря воплощению в жизнь именно того, что он идеологически отрицал, – благодаря развитию капиталистического способа производства. Поскольку построение нового капиталистического классового общества не было целью большевиков с самого начала, революционная цель теперь приобрела вид идеологических установок, отделенных от экономической действительности страны. То, что в других странах осуществила буржуазия, то есть создала капитал путем «первобытной аккумуляции», экспроприации крестьянства и эксплуатации пролетариата, теперь должны были сделать российские марксисты; а то, что это осуществлялось без отказа от марксистской идеологии, не удивляет: при капитализме господствующая идеология не отражает действительного положения вещей, а только маскирует их «мистическим туманом». В том собственно и состоит функция идеологии – покрывать и оправдывать неприемлемую общественную практику, вот почему еще Маркс и Энгельс называли идеологию «ошибочным сознанием».
Корш одним из первых обратил внимание на крестьянский характер Российской революции. В России как буржуазия, так и пролетариат противостояли не только полуфеодальному царизму, но и несоциалистическим стремлениям крестьянских масс. В этих условиях зародилась социальная революция, которая не была ни пролетарской в марксистском понимании, ни буржуазной в традиции Французской революции 1789-1794 гг. Хотя она содержала в себе элементы обеих, она прежде всего была крестьянской революцией в стране, уже подчиненной капиталистическому рынку. Хотя сам Ленин считал, что будущая русская революция будет буржуазно- демократической, революция 1917 г.. получила название «пролетарской», потому что государственную власть захватили большевики, а большевистская партия была марксистской. Тоталитарная партийная власть, которая постепенно охватила все общество, выдавалась за «диктатуру пролетариата», хотя сам пролетариат в отсталой России еще нужно было создать. Период между началом революции и захватом власти большевики рассматривали как переход от буржуазно-демократической к пролетарской-социалистической революции или даже как слияние буржуазной и пролетарской революции в одну, то есть речь шла о ликвидации целого этапа общественного развития и создании пролетариата и предпосылок для социализма не из капиталистического развития, а по прямому государственному принуждению, «освященному» марксистской идеологией. По мнению Корша, это была не марксистская политика, хотя ее можно было обосновать, если рассматривать Российскую революцию не как внутренние дела отдельной страны, но как часть мирового революционного процесса, который, при условии успеха, должен был объединить малоразвитые регионы мира с более развитыми, социалистическими странами, так же, как до этого капитализм объединил все нации несмотря на все их различия, в единое мировое капиталистическое хозяйство.
Корш пришел к выводу, что конец капитализма требует смерти традиционных рабочих организаций. То, что эти организации продолжали пользоваться доверием рабочих, свидетельствовало о том, насколько незрелой остается классовое сознание пролетариата. Революционный марксизм умер в партиях, но продолжает жить там, где продолжаются независимые выступления рабочего класса. Для возрождения революционного движения решающее значение имеет не идеологическое следование учению Маркса, а выступления рабочего класса от своего имени. Традиция таких выступлений сохранилась в практике анархо-синдикалистского движения. Вот почему Корш обратился к опыту анархизма – анархизма рабочих и неимущего крестьянства Испании, где с 1931 г.. продолжалась революция. Упор анархистов на свободу, стихийность и самоопределение, на действия, а не на идеологию, был именно тем качеством, которое в погоне за политическим влиянием и властью в развитых капиталистических странах потеряло социалистическое движение. Коршу было безразлично, придерживалось ли оно Маркса в своем анархистском толковании революционного марксизма или нет – в условиях капитализма XX в. стоило заимствовать у всех доктрин; главное, чтобы эти заимствования помогали выживанию рабочего движения.
Все утверждения Маркса, писал Корш, «представляют лишь исторический очерк подъема и развития капитализма в Западной Европе и имеют универсальную ценность за ее пределами ровно настолько, насколько имеет в применении к более, чем одному частному случаю всякое надежное эмпирическое знание о естественной и исторической форме». Марксизм, следовательно, действует на «двух уровнях обобщения: как общий закон исторического развития в форме «исторического материализма» и как отдельный закон развития настоящего капиталистического способа производства и порожденного им буржуазного общества» и касается он не «восходящего капиталистического общества, а приходящего в упадок истинного капиталистического общества, о чем наглядно свидетельствуют имеющиеся тенденции застоя». Экономический анализ Маркса можно применять исключительно к буржуазным условиям. Производство капитала не тождественно отношениям между человеком и природой как «отношениям между человеком и человеком, опирающиеся на отношения между человеком и природой». Для Маркса экономические исследования доказали «общие понятия и принципы политической экономии, они служат теперь фетишами, которые маскируют реальные общественные отношения между людьми и классами в рамках определенного исторического этапа развития общественно-экономической формации». Марксизм – это не просто один из этапов развития экономической теории, и «марксистскую политэкономию» нельзя прикладывать к социализму, в котором не действует «закон стоимости».
По Коршу, предметом марксизма являются прежде всего явления истории и общественной жизни, а также взаимоотношения между ними. Раздувание диалектического материализма до масштабов вечного закона космического развития несвойственно марксизму. Но тот факт, что толчок ему дал Энгельс в «Диалектике природы» (1873-1882 гг.), указывает на то, что процесс преобразования теории пролетарской революции в мировоззрение, независимое от пролетарской классовой борьбы, начался давно. В этой идеологической форме марксизм мог использоваться для целей, которые не совпадали с целями пролетариата, поэтому он стал оружием в руках большевиков во главе с Лениным во время работы по модернизации российского общества.
Поскольку в своей революционной деятельности для Маркса важным было прежде всего создание революционной политической партии, ленинский упор не на пролетариат, а на партии, судя по всему, находится в полном согласии с революционным марксизмом. Маркс говорил об отмене фетишистского капиталистического производства через сознательную и непосредственную организацию труда, но его высказывания в этом отношении не до конца ясны. Например, Маркс рассматривал переход от капитализма к социализму не как единый революционный акт, но как революционный процесс, в течение известного времени содержащего в себе много пережитков буржуазного общества. Получается, управляемое сверху плановое хозяйство, созданная новым государственным аппаратом партийная диктатура – эти явления, если рассматривать их как признаки переходного этапа на пути к бесклассовому и самоуправляемому социалистическому обществу, не противоречат теории Маркса в её «ортодоксальном» варианте.
То, что «ортодоксальный марксизм» и его революционное применение могли служить капиталистической революции, по Коршу, свидетельствует о том, что марксизм, в том виде, в котором его развивали Маркс и Энгельс, и рабочее движение не смогли освободиться от своей буржуазной наследственности. Именно то, что в марксистской теории и практике часто выглядело как антибуржуазное, оказалось легко приспособляемым к капиталистическому способу производства. Путь к социализму привел к капитализму нового типа. То, что должно было преодолеть капитализм, оказалось новым способом сохранения капиталистического строя. Так Корш от критики марксистской «ортодоксии» подошел к критике самого марксизма, а значит, и к самокритике.
На поражение марксизма в 1920-х — 1930-х гг. академические марксисты реагировали в большинстве одинаково – переставали быть марксистами. Кто-то успокаивал себя тем, что видел в исчезновении марксизма как самостоятельной философской школы и выделении определенных его составных частей, пригодных к ассимиляции, с последующим внесением их в разных буржуазных общественных наук, большой триумф гения Маркса. Другие просто провозглашали марксизм прошедшим (вместе с капитализмом свободной конкуренции и другими сторонами жизни викторианской эпохи). Чего они, конечно, не заметили, так это того, что не теряет актуальности анализ Маркса механизмов капиталистического способа производства и его исторического развития, ведь не исчезла ни одна из общественных проблем, которая беспокоила мир во времена Маркса. Эти «марксисты» заметили только то, что не видно революционного пролетариата в марксистском понимании, а значит, не будет никакой пролетарской революции. Однако пролетариат не только не исчезает, но и растет по всей планете вместе с капиталистической индустриализацией ранее неразвитых наций. Все капиталистические противоречия остаются и требуют решений, которые недопустимы при капитализме и выходят за его рамки. Что доказывает настоящий период контрреволюции, писал Корш, так это то, что эволюция капиталистического общества еще не достигла своих крайних исторических границ, хотя границ своих эволюционных возможностей уже достигли либеральный капитализм и реформистский социализм. Для Корша возможные упущения марксистской теории не противоречат тому, что марксизм продолжает обгонять все другие общественные теории даже во времена его неудачи как общественного движения. Эта неудача требует не отказа от марксизма, а марксистской критики марксизма.
Грамши: гражданское общество, гегемония, интеллектуалы
Антонио Грамши (1891-1937) родился на острове Сардиния в семье мелкого служащего. Семья была многодетной – Антонио был четвертым из семи детей. Жили бедно; в 1902-1904 гг. еще школьником он, чтобы помочь семье, работал в кадастровом бюро. На государственную стипендию учился в Туринском университете, но вынужден был бросить учебу из-за проблемы со здоровьем (причиной тому был туберкулез костей и суставов, которым Грамши болел с детства). Еще в Сардинии старший брат Дженнаро познакомил юного Антонио с социалистическим идеями. В 1913 году, во время учебы в университете, Грамши вступил в Итальянскую социалистическую партию, а в 1919-1920 гг. принял активное участие в работе туринских фабрично-заводских рабочих советов. На XVII съезде Соцпартии, который состоялся в Ливорно в январе 1921, произошел раскол, и левое крыло сформировало самостоятельную, коммунистическую партию.
В 1921-1922 гг. Грамши жил в Москве – работал в Коминтерне. В 1924 был избран депутатом итальянского парламента. К тому времени две трети мест в палате депутатов принадлежали фашистам, и они спешили завершить процесс захвата полной власти, начатый еще «походом на Рим» и формированием первого правительства Муссолини в октябре 1922 года. Последним актом этого процесса стал «Закон о защите государства» (ноябрь 1926): по этому закону были распущены все «антинациональные» партии, закрыты оппозиционные газеты, для всех подозреваемых в антифашизме устанавливалась «административная высылка», был введен «особый трибунал по защите государства», были лишены мандатов депутаты-нефашисты, а депутаты-коммунисты, в том числе Грамши, который в то время был первым секретарем Коммунистической партии, были арестованы. Сначала Грамши был интернирован, а потом предстал перед судом, который приговорил его к 20-летнему сроку. Позже приговор смягчили: срок заключения сократили до 11 лет. На свободу Грамши вышел тяжело больным человеком. Умер в больнице в Риме.
Из-за интенсивной партийной работы до заключения и ухудшения здоровья в тюрьме Грамши не имел времени и возможности иметь систематически заниматься теорией: он писал публицистические статьи, но не написал ни одной книги. Его теоретические находки разбросаны по страницам тетрадей, которые он вел в фашистской тюрьме с 1929 по 1935 гг. (впервые они были опубликованы частично в 1947 году). В «Тюремных тетрадях» изложены взгляды Грамши на ряд важных вопросов: изучение и изложение философии, народное образование, борьба за политическую власть, роль политических партий, роль интеллектуалов в истории и их место в современном обществе и т. д. На каждую тему Грамши собирался написать отдельную книгу, но этому не суждено было случиться.
Размышляя над понятием «гражданское общество», Грамши пришел к выводу, что оно представляет собой совокупность общественной деятельности и институтов, которые являются частью государства, но при этом, в отличие от «политического общества», не является инструментом непосредственной власти. К этим институтам он причислял оппозиционные партии, профсоюзы, добровольные объединения граждан, школу, церковь и т.п. Гражданское общество – это сфера, в которой господствующий общественный класс «организует» согласие общества со своим господством – посредством идеологической, культурной гегемонии (в отличие от политического общества – государства, где господство «организовано» через принуждение).
Понятие «гражданское общество», употребляемое с начала XIX в., призвано пролить свет на положение вещей в странах, где победила буржуазия. Однако оно не столько проясняло, сколько затуманивало картину. Гражданское общество и разговоры о его влиянии на государство скрывают тот факт, что лозунг «свобода, равенство, братство» на практике означает свободу, равенство, братство не для всех, а только для буржуазии, только для владельцев средств производства, только для капиталистов. Только выходцы из этого класса считались полноценными гражданами (что отразилось в избирательном законодательстве — в XIX в. – довольно дискриминационном, когда правом голоса обладало мизерное меньшинство населения), и только общество этих граждан было — и есть — гражданским обществом. Если признать, что капиталистическое, буржуазное общество образует целостность и все его силы направлены на достижение единой цели – непрерывного накопления капитала, а главным источником приумножения капитала является наемный труд, тогда зависимость наемного работника от капиталиста на уровне производительных сил воспроизводится и на уровне политическом (или государственном), где гражданское общество пользуется только ограниченной автономией от институтов государственной власти и не может расширить границы этой автономии, пока не изменятся общественные отношения, ведь они эту автономию ограничивают. Вся автономия гражданского общества улетучивается, когда речь заходит о финансировании его деятельности (хороший пример из современности –неправительственные организации). Финансовая, а также правовая зависимость приводит к идеологической зависимости, она определяет направления и формы борьбы и в лучшем случае ведет к частичным улучшениям общества. А нередко эти направления и формы борьбы, будучи оторванными от общественной действительности, направляют борьбу на решение второстепенных или вымышленных общественных проблем. Так, борьба за гегемонию пролетариата, борьба за революционные общественные преобразования, если она ограничивается борьбой на уровне гражданского общества, к тому же если она происходит «цивилизованно», «в правовом поле», «ненасильственными методами», обречена на вечный «бег на месте».
Об укреплении и воспроизведении гегемонии печется не только гражданское общество, но и государство (политическое общество), хотя в основном это органы насилия (полиция, армия, суды), насильственными действиями государство отнюдь не ограничивается: оно выполняет и воспитательную функцию, действуя посредством убеждения. Сила, которую демонстрирует государство и которую испытывают граждане, порождает не только страх, но и чувство покорности, то есть пассивное согласие, иногда – уважение, стремление быть на стороне сильного. Широко распространенное согласие в свою очередь позволяет успешно применять силу против несогласных. Таким образом государство в значительной мере выполняет функции гегемонии, присущие гражданскому обществу. Гражданское общество, со своей стороны, функциями гегемонии не ограничивается. Грамши пишет, что и общественные организации могут действовать насильственными методами, например, как фашистские отряды, возникшие в рамках гражданского общества. Другой пример (из средневековой истории) –церковная инквизиция. В современных условиях – терроризм. Еще один пример: важнейшая организация гражданского общества – политическая партия, приобретая большинство в парламенте или приходя к власти через другим способом, формирует правительство и руководит страной посредством государства с применением всего арсенала насильственных и ненасильственных средств.
Господство буржуазии в Западной Европе, основанное не только на принуждении, но и на согласии, создало условия, которые делали невозможным приход пролетариата к власти путем, указанным Октябрьской революцией в России, то есть путём «штурма власти». Борьба на Западе должна была быть затяжной и приобрести форму «позиционной войны», разворачивавшейся вокруг борьбы за гегемонию (господствующее место в обществе). Борьба за гегемонию происходит в истории не впервые: другие общественные классы в другие эпохи боролись за право возглавить общество. Бороться за гегемонию для пролетариата Италии, по Грамши, значит завоевать доверие беднейшего крестьянства и интеллектуалов – эти слои смогут сначала распознать, а затем и признать в пролетариат силу, что позовет общество в будущее.
Гегемония означает не только занять ведущее место в политической жизни, но также завоевать авторитет у народных масс, захватить культурное и нравственное лидерство (культурная гегемония, идеологическая гегемония). Без авторитета любое господство означает диктатуру. Мощь гегемонии измеряется степенью согласия народных масс с политикой правящей класса. В буржуазном обществе культурно-идеологическую гегемонию осуществляют интеллектуалы: они, производя и распространяя определенную идеологию через систему институтов гражданского общества, цементируют классовой союз, связывают между собой верхом и низы. Никакой класс, претендующий на гегемонию, не может обойтись без соответствующей идеологии и без интеллектуалов-идеологов, которые помогают ему осознать себя и осознать свою общенациональную миссию. Интеллектуалов, обслуживающих господствующий класс в сфере гражданского общества, могут набирать из среды «традиционных интеллектуалов», «унаследованных» от предыдущих исторических эпох (например, священники), а также могут быть воспитаны самим правящим классом (например, школьные учителя, армейские офицеры, журналисты, писатели, философы). Последнюю группу Грамши называл «органическими интеллектуалами».
Хотя оппозиция может зародиться в недрах гражданского общества, и борьба за культурно- идеологическую гегемонию является важным элементом классовой войны, разворачиваться эта борьба может параллельно с политической борьбой, а решающим является борьба за власть. Грамши писал: «… в современном мире культурно-духовный империализм является утопией: только политическая сила, опирающаяся на экономическую экспансию, может стать основой культурной экспансии». Другими словами, борьба за власть, ограничивающаяся институтами гражданского общества, обязательно потерпит поражение. Гегемонию можно осуществлять только в условиях демократических свобод, а потеря или ослабление гегемонии господствующим классом (буржуазией) толкает ее на отказ от демократии – отсюда фашизм.
Создание в Италии на основе взаимного компромисса аграрного-промышленного блока, то есть союза крупной буржуазии Севера и феодального Юга, определило весь дальнейший ход итальянской истории. Объединив Италию территориально и государственно, буржуазия не объединила ее социально. Переход к буржуазному строю без активной поддержки широких народных масс, прежде всего крестьянских, Грамши определял как «пассивную революцию». Вот почему история Италии первых десятилетий после объединения изобилует примерами крестьянских выступлений в самых разных формах – от массового бандитизма («бригандаж» на юге) до самозахвата земли. Когда после Первой мировой войны государство почувствовало дополнительную угрозу со стороны рабочего класса, господствующий класс предпочел отказаться от демократических форм правления и перешел к откровенно насильственной диктатуры. Так Грамши объяснял феномен фашизма. Этот феномен – продолжение тенденций, заложенных в самой либеральной стране еще при ее создании. Суть дела в неполноте гегемонии итальянской буржуазии, которую был призван компенсировать фашизм – мобилизировать в поддержку либерально-монархического режима мелкобуржуазную массу. Союз мелкой буржуазии с крупной буржуазией – основа гегемонии системы фашизма. Но в этом и специфическая слабость фашистского государства: многочисленная в Италии мелкая буржуазия, это, во многом, слой непродуктивный, паразитический, ориентированный на «кормление» за счет государства на разных государственных должностях. А это создает серьезные трудности для капиталистической рационализации производства, она требует прежде всего устранения лишних «накладных расходов».
Фашизм, по Грамши, это – особая форма цезаризма, когда единоличная диктатура будто примеряет классы, которые борются между собой за господствующее положение в обществе, находятся в остром противоречии. В основе цезаристский, диктаторской формы правления лежит «катастрофическое равновесие сил» (с тенденцией к взаимоистреблению) не только основных, но и второстепенных классов или их фракций. Цезаризм может быть не только прогрессивным (Юлий Цезарь, Наполеон I), но и реакционным (Наполеон III, Бисмарк).
Интеллектуалов Грамши рассматривал исходя из выполняемой ими общественной функции: интеллектуалы организовывают общественное производство и воспроизводство. При этом слово «интеллектуал» не обязательно является синонимом понятия «работник умственного труда» – интеллектуалом может быть и рабочий. Грамши отвергал теории, согласно которым интеллектуалы образует однородную социальную группу (общественный класс), независимую от других классов – даже от правящего класса. Каждый класс имеет своих интеллектуалов и свою иерархию интеллектуалов. Верхушка интеллектуалов, это – теоретики, идеологи. Остальные слои интеллектуалов распространяют идеи и практически организуют класс и ее связь с другими классами.
Органических интеллектуалов Грамши противопоставлял традиционным. Органические интеллектуалы являются активной частью своего класса, а пролетарские органические интеллектуалы к тому же не просто изучают и объясняют общественную жизнь, но выражают настроения и опыт, которые массы не могут выразить самостоятельно. Органические интеллектуалы пролетариата как революционного класса всегда являются революционной интеллигенцией. Организационной формой этой интеллигенции является коммунистическая партия – в партии происходит ее отбор. По Грамши, все люди интеллектуалы, когда занимают активную жизненную позицию, сочетая теоретико-идеологических работу с практической борьбой за интересы своего класса. По мере развертывания революционных преобразований, степени вовлеченности масс к управлению собственной жизнью и обществом в целом функцию интеллектуалов осуществляет все большее количество людей: они сами выдвигают политические и хозяйственные задачи и сами выполняют их, организовывают общественные процессы и управляют ими. Это и есть настоящая демократизация – процесс, призванный блокировать формирование бюрократии, зарождается именно в условиях монополизации права принимать общественно важные решения узким кругом «профессиональных» интеллектуалов.
В завершение
Если на Западе произведения марксистов – и упомянутых выше, и других – регулярно переиздают, они обязательно входят в различные антологии, о них ведутся бесконечные споры, им посвящают исследования (Грамши, например, является одним из двух самых обсуждаемых итальянских авторов в мире – вторым является Никколо Макиавелли), в бывшем Советском Союзе и в современной Украине марксизм практически забыт.
В Советском Союзе счастливее сложилась судьба литературно-теоретического наследия Грамши: в 1950-е — 1970-е гг. на русском языке (главным языком науки в СССР) вышло несколько сборников его статей, писем из тюрьмы, избранных мест из «Тюремных тетрадей», а также биографий, в том числе одной из известной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Иначе и быть не могло, ведь Грамши был одним из основателей итальянской компартии, у которой всегда были хорошие отношения с Коммунистической партией Советского Союза, к тому же он был и остается непререкаемым авторитетом как в итальянском коммунистическом движении, так и в широких культурных кругах стран Запада. Важным было и то, что в его произведениях не найти открытой критики СССР или «советского марксизма». Значительно меньше повезло Георгу Лукачу, потому что его публиковали эпизодически, и то преимущественно в журналах. Карла Корша после 1924, когда вышли в свет русские переводы «Марксизма и философии» и «Рабочего движения и фабрично-заводских советов Германии», не только не публиковали, но, похоже, даже нигде никогда не вспоминали: его фамилию не найти в пятитомной «Философской энциклопедии» (1960-1970 гг.), хотя в ней есть отдельные лозунги о Грамши и Лукаче. Единственный украинский перевод упомянутых авторов, о котором нам известно, это – статья Лукача «Франц Кафка или Томас Манн? Авангардизм и критический реализм в современной буржуазной литературе», напечатанная 1974 года в журнале «Вселенная». О первых «западных марксистах» «позабыли» авторы «Философского словаря» (1973, 1986).
Ситуация изменилась во второй половине 1980-х гг., когда как будто поменялись местами Грамши и Лукач. В 1990-1991 гг. увидели свет последние русскоязычные сборки Грамши. Зато в 1985-1987 гг. «вернулся» Лукач с четырехтомником «Своеобразие эстетического», вслед за которыми появились русские переводы книги «Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества», очерки о В.И. Ленине, статьи 1920-х гг. И наконец – с 80-летним опозданием – сборник «История и классовое сознание». Позже вышло несколько книг о жизни и идеях венгерского философа.
Возрождение левого книгоиздания в Украине ознаменовалось между тем появлением в 2010-х украиноязычных сборников Лукача и Грамши, причем, выбранных мест из «Тюремных тетрадей» последнего получилось два издания. Это – по сравнению со временами УССР – прорыв, но этого все равно очень мало.
Впервые опубликовано на украинском языке в интернет-журнале «Вперед».
08.02.2025
↑