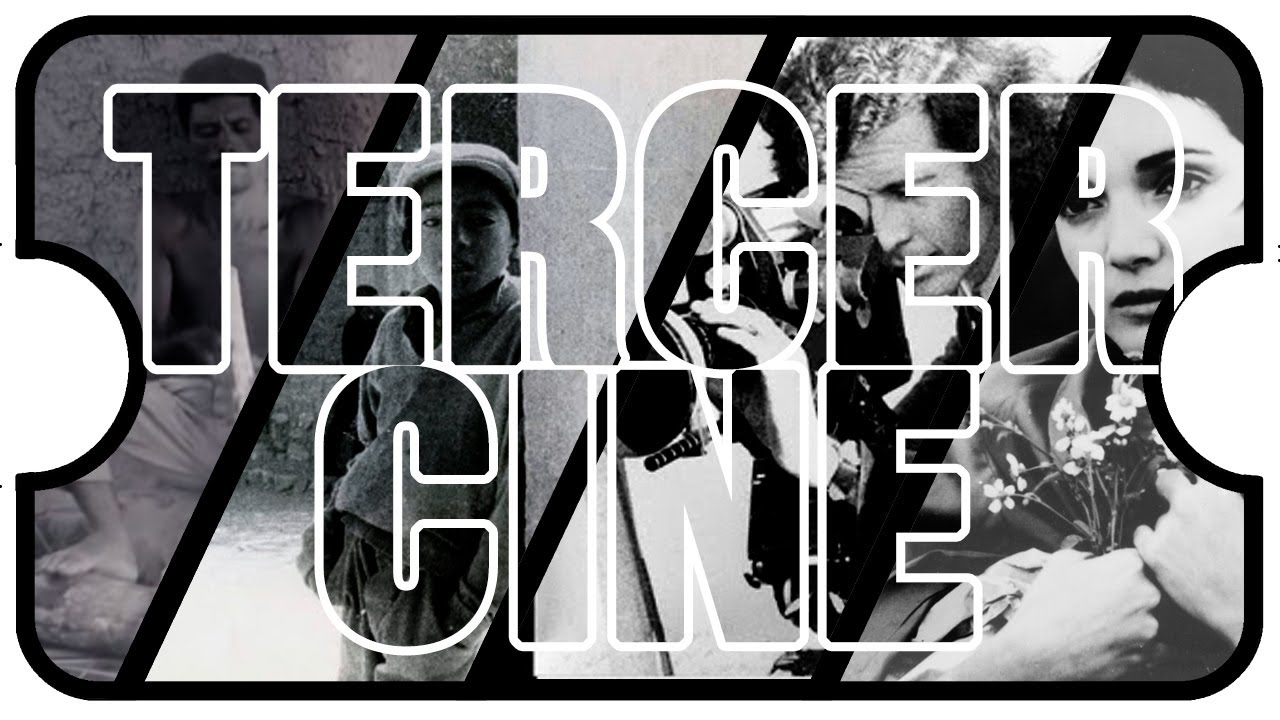Оригинал статьи был первоначально опубликован на сайте Ревкульт
Авторы: Фернандо Соланас, Октавио Хетино
Перевод: Настя Шарова под редакцией Дмитрия Субботина и Владислава Федюшина
Представляем читателю основополагающий текст Третьего кинематографа — важнейшей попытки осмысления кино в рамках революционной политической логики, родившейся практически одновременно, в 1960-е гг., сразу на трех континентах мировой периферии.
Авторы манифеста «К Третьему кинематографу» — аргентинские режиссеры Фернандо Соланас и Октавио Хетино; впрочем, не будь их, схожий по значению и направленности манифест мог родиться в любой другой стране мира, страдающей от неоколониальной зависимости. В настоящем предисловии мы не будем излагать теоретическое содержание работы, доступной теперь русскоязычному читателю, но лишь кратко отметим важные детали, не очевидные из текста и основополагающей работы режиссеров — фильма «Час печей».
В 1960-е гг. массовый террор «грязной войны» в Аргентине еще не развернулся: он придет позднее, в 1970-е. Тем не менее, репрессии со стороны праволиберальных правительств в отношении левых активистов были уже сильны. Государство уже осваивало тактику террора, хотя внесудебные расправы и нападения все еще не носили массового характера.
В этой ситуации Соланас и Хетино с единомышленниками создают группу Cine Liberación (исп. «Кино-освобождение»), действующую подпольно. Прикрытием служит фирма Соланаса по производству рекламных роликов: она позволяет ездить по стране, покупать пленку и аппаратуру, не вызывая подозрений.
И в 1960-е, и позднее Соланас и Хетино находились под влиянием, прежде всего, левого перонизма, идейным оформителем которого был историк Хуан Хосе Эрнандес Арреги. Будучи, безусловно, марксистским и революционным, это течение отводило важнейшую роль антиимпериалистической борьбе. Центральная тема размышлений Арреги — аргентинская нация как результат смешения индейской и испанской компонент, история которой — борьба за независимость, сперва политическую, а затем и экономическую; эта концепция ярко представлена в «Часе печей».
Стоит отметить, что с аргентинской Компартией у левых перонистов имелись принципиальные расхождения. В 1955 г. КПА поддержала свержение Хуана Доминго Перона, выступив попутчиком либеральных политиков и правых военных. Курс на индустриализацию и самостоятельное развитие с опорой на профсоюзы был свернут; доходы населения сильно упали, рабочие и политические активисты стали объектами полицейского давления и террора. Простить этого коммунистам радикальные перонисты не могли.
Третий кинематограф можно трактовать двояко. С одной стороны, чисто искусствоведческой, его можно ограничивать конкретными временными и географическими рамками — Латинской Америкой (или даже только Аргентиной) 1960-70-х гг. С другой, можно смотреть на него через оптику, изложенную в манифесте самими Соланасом и Хетино. В таком случае Третий кинематограф отнюдь не сводится ни к Латинской Америке, ни к Третьему миру вообще. Само это течение при таком рассмотрении живо и сейчас, особенно учитывая огромное удешевление кинопроизводства за счет развития цифровых камер.
Важнейшие тексты и новости Третьего кинематографа можно найти на сайте Third Cinema.
Редакция Ревкульта
…нужно искать, нужно изобретать.
Франц Фанон
Ещё совсем недавно идея создания антиколониального кинематографа в колониальных и неоколониальных странах казалась совершенно безумной. До последнего времени кино всегда было зрелищем, развлечением, объектом потребления. В лучшем случае кинематограф, ограниченный запретами выходить за определённые рамки, мог показывать следствия; причины — никогда. Самое ценное сейчас средство передачи информации было обречено удовлетворять лишь интересы хозяев киноиндустрии, то есть хозяев мирового кинорынка, в подавляющем большинстве американцев.
Возможно ли изменить такое положение дел? Как можно продвигать кинематограф освобождения, если затраты исчисляются миллионами долларов, а средства распространения и показа фильмов сосредоточены в руках врага? И как обеспечить постоянность работы? Как сделать так, чтобы фильм дошёл до широких масс? Как одолеть цензуру и преследование системы? Подобные вопросы множатся; они приводили и приводят к скепсису и выдумыванию оправданий. «Без революции не может быть революционного кино», «революционное кино возможно снимать только в освободившихся странах», «без поддержки политических революционных сил невозможно заниматься революционным искусством, кино». Это заблуждение — результат того, что на реальность и на киноискусство мы смотрим под тем же углом, что и буржуазия. Не представляем себе иных моделей производства и проката фильмов кроме тех, что имеются в мире американского кинематографа, поскольку киноискусство пока не стало средством чёткого разграничения буржуазной идеологии и политики. У нас реформистская политика, выражающаяся в диалоге с врагом, в сосуществовании, в затушёвывании национальных противоречий или противоречий между политическими блоками: СССР и США. Она позволяет создавать лишь картины, обречённые встроиться в систему; пусть даже это будет «прогрессивное» кино, оно останется в её рамках. В итоге деятелям кинематографа остаётся только ждать, пока мировой конфликт разрешится приходом к социализму мирным путём: мол, тогда-то их искусство и изменится в качественном смысле. Наиболее успешные попытки тех, кто рискнул, скажем так, взять крепость киноискусства, заканчивались, по удачному определению Годара, тем, что штурмующие «оказывались запертыми в этой крепости».
Но всё же само появление вопросов обнадёживает: их порождает новая историческая ситуация. Как часто бывает в просвещённых кругах наших стран, мы тут опаздываем. Кубинская революция, вьетнамская эпопея, развитие мирового освободительного движения с авангардом в странах Третьего мира… Без самосознания революционных масс в мировом масштабе этих вопросов просто не появилось бы. Новая историческая ситуация для нового человека, формирующегося в антиимпериалистической борьбе, требует от наших режиссёров, да и от режиссёров стран- метрополий нового, революционного подхода к делу. Вопрос о возможности существования революционного кинематографа ещё до совершения революции стал заменяться — пока небольшими группами людей — на следующий: нужен ли вообще сейчас такой кинематограф, способен ли он внести вклад в дело революции? Утвердительный ответ стал в ряде стран отправной точкой поиска возможностей. Достаточно упомянуть фильмы «отечества для всех» (согласно боливарианскому выражению) — революционный кинематограф Латинской Америки; американскую кинохронику, итальянский «Киножурнал Студенческого движения», фильмы по итогам Генеральных штатов французского кино [Генеральные штаты французского кино — прошедшая в мае-июне 1968 г. в Париже серия напряжённых дебатов о способах демократизации киноиндустрии, в которой приняли участие деятели кинематографа и представители других творческих профессий, поддержавшие тогдашнюю волну социальных протестов; в ходе дискуссии был принят ряд масштабных проектов, но лишь ничтожная часть решений достигла хоть какой-то реализации. — Прим. пер.], ленты студенческих движений Англии и Японии — продолжение и развитие идей режиссёров вроде Йориса Ивенса и Сантьяго Альвареса.
I. Их и наше
Оглавление
- I. Их и наше
- II. Зависимость и культурный империализм
- III. Неоколониальные кинематографические модели Аргентины. Первый и второй кинематограф
- IV. От их кино к нашему: третий кинематограф
- V. Прогресс и демистификация техники
- VI. Кино разрушения и созидания
- VII. Кино-действие
- VIII. Кино и конкретные обстоятельства
- IX. Идеальное кино – принцип и заблуждение
- X. Партизанская съёмочная группа
- XI. Прокат фильмов третьего кинематографа
- XII. Кино-действие = зрители и главные герои
- XIII. Установки третьего кинематографа
Серьёзные дебаты о роли художников и интеллектуалов в освободительном процессе укрепляют сегодняшние перспективы интеллектуальной работы во всём мире. Однако эта дискуссия колеблется между двумя полюсами. На одном из них — подчинение всей интеллектуальной мощи лишь политической или военно-политической функции, отрицание собственного потенциала творчества: дескать, система в любом случае его поглотит. Другой полюс обусловливает дуализм интеллектуалов: с одной стороны, они ведут разговоры о «произведениях искусства», о «привилегии красоты», о том, что искусство и красота не всегда должны быть связаны с политическими революционными процессами, с другой стороны — выполняют политический долг, например, подписывая антиимпериалистические манифесты. Фактически, это отчуждение политики от искусства.
На наш взгляд, названные полюса образуются благодаря двум моментам. Первый — отношение к культуре, науке, искусству как к чему-то однозначному и универсальному. Второй — отсутствие чёткого понимания того, что революция начинается не тогда, когда политическая власть уходит из рук империалистов, буржуа; она начинается тогда, когда народ осознаёт необходимость перемен, и интеллектуальный авангард начинает реализовывать их, прорабатывать самыми разными методами.
Культура, искусство, кинематограф всегда соотносятся с интересами конфликтующих классов. В неоколониальной реальности соперничают два образа культуры, искусства, науки: правящего класса и народный. Такое положение дел будет сохраняться, пока есть колонии и полуколонии. Даже так: преодолеть этот дуализм и сделать культуру всеобщей можно лишь тогда, когда общечеловеческие ценности выйдут из-под власти гегемонии, когда освобождение человека примет универсальный характер. Пока же есть наша культура и их культура. Наша культура — культура освобождающая, подрывная. Мы создаём подрывную науку, подрывное искусство, подрывной кинематограф.
Недопонимание дуализма приводит к тому, что интеллектуалы и в науке, и в искусстве, пользуются методами, насаждёнными правящими классами. Мало развивают революционный театр и кинематограф, революционную архитектуру, медицину, психологию — культуру, творящуюся нами для нас. Интеллектуал берётся за конкретную задачу в одной сфере культуры и рассматривает её в отрыве от культурного процесса в целом, анализируя свою деятельность лишь изнутри, без освоения новых методов.
Деятельность космонавта, военного мобилизует все научные ресурсы империализма. Психологи, врачи, политики, социологи, математики и даже деятели искусства обречены заниматься всем, что полезно империалисту, что удовлетворит его нужды: от вопросов разделения труда до подготовки к полёту по орбите или убийству вьетнамцев.
В Буэнос-Айресе армия оперативно искореняет «вильяс мисерияс» [Трущобы стихийной застройки (букв. «городки нищеты» (исп.)). — Прим. пер.] и создаёт на их месте «стратегические поселения» — иными словами, такие городские районы, которые при случае легко захватить. А вот массовым организациям не хватает сплочённости. И дело не в нехватке объединений медиков, инженеров, психологов, деятелей искусства, кино — нашего, революционного кино. Не хватает общей организации, признающей важность каждого этапа революционной работы — как предварительных шагов к завоеванию власти, так и решения задач уже победившей революции. Работы по политическому просвещению, направленному на революционную борьбу; медицинской работы — в том числе и по подготовке людей к борьбе в городских и природных условиях; организации производства десяти миллионов тонн сахара, как на Кубе; работы архитекторов и урбанистов — разработки архитектурной среды, которая сможет выдержать массивные бомбардировки империалистических сил; и так далее. Развитие всех отраслей труда и приоритет коллективного может помочь заполнить пустоты, возникающие в ходе борьбы за освобождение, и чётче обозначить роль интеллектуала в современном мире. Совершенно ясно, что массы смогут сознательно овладеть культурой только после взятия власти, но столь же важно осознавать, что привлечение науки и культуры к политической борьбе готовит почву для осуществления революции, для более эффективного решения проблем, которые неизбежно возникнут после неё.
Интеллектуалам на практике нужно выяснить, в какой сфере они наиболее плодотворно могут выполнять необходимую работу. Когда сфера определена, задача интеллектуала — отыскать в ней вражеский окоп и суметь окопаться самому. Из этих окопов и выйдут медицина, культура и кинематограф революции — те основы, что внесут огромный вклад в формирование нового человека (по Че). Не в абстрактное «освобождение» абстрактного «человека», а в воспитание нового человека, способного стряхнуть прах человека старого, отчуждённого — каковыми мы все и являемся, — развеять пепел прошлого и раздуть огонь настоящего.
II. Зависимость и культурный империализм
Антиимпериалистическая борьба народов Третьего мира и угнетённых в самой метрополии является сегодня эпицентром мировой революции. Третий кинематограф видит в этой борьбе самое масштабное творческое, научное явление нашего времени, великую возможность народов начать процесс культурного освобождения, культурной деколонизации.
Культура неоколониальной страны, включая кинематограф, — лишь проявление глобальной зависимости, формирующей принципы и ценности по следам империалистической экспансии. «Для поддержания неоколониализма необходимо убеждать зависимых в их неполноценности. Рано или поздно неполноценный человек признаёт наличие Человека с большой буквы, и это признание означает конец его сопротивления. “Если ты хочешь быть настоящим человеком, — говорит угнетатель, — ты должен быть таким же, как я, говорить на моём языке, отрицать себя, отчуждать себя во мне”. Неоколонизированный человек, интеллектуал, творец имеют ценность только тогда, когда они признаны метрополией. Патернализм европейской культуры скрывает глубоко укоренённый расизм колониальных держав. Уже в XVI веке миссионеры-иезуиты заявляли о пригодности туземцев к копированию европейского искусства. Имитатор, переводчик, интерпретатор, в лучшем случае, зритель. Неоколонизированного интеллектуала всегда будут заставлять игнорировать свои творческие способности. Вместо того, чтобы ассимилировать и трансформировать лучшие ценности других культур для построения собственной, он отказывается от своей способности искать и изобретать. Тогда усиливается торможение, утрата корней, эскапизм, культурный космополитизм, метафизическая тоска, предательство страны [Наш фильм «Час печей» (часть «Неоколониализм и насилие»).]». Культура становится двуязычной «…не потому, что в стране говорят на двух языках, а потому что на территории страны действуют две модели культуры, мышления. Первая — национальная, вторая тяготеет к иностранному, она исходит от правящего класса, подчинённого зарубежной власти и восторгающегося ею. Поклонение Соединённым Штатам или Европе — неотъемлемая часть повиновения. Посредством колонизации правящих классов империалистическая культура внедряет в массы знания, неподвластные критическому осмыслению [Хуан Хосе Эрнандес Арреги, «Империализм и культура» (Juan José Hernández Arregui, “Imperialismo y cultura”).]». Как народ неоколониальной страны перестаёт быть хозяином земли, по которой ходит, так он перестаёт быть и хозяином идей, на ней взрастающих. Чтобы понять национальную реальность, необходимо распутать клубок лжи и заблуждений, порождённых ситуацией зависимости. В этой ситуации интеллектуал обязан прекратить мыслить самостоятельно. Если всё же он решается подумать своим умом, есть риск начать думать на французском или английском, а не на языке родной культуры; последняя, подобно самому процессу национального и социального освобождения, пока зыбка и неразвита. Всякая информация, любой факт, любая идея, достающиеся нам, — лишь каркас для построения колонизаторской иллюзии, и каркас этот очень сложно демонтировать.
Буржуазия портовых городов, например, Буэнос-Айреса, и подчинённая ей интеллектуальная элита с самого основания нашей страны служила приводным ремнём неоколониального подчинения. За лозунгами вроде «Цивилизация или варварство», выдуманными в Аргентине европействующим либерализмом, стоит попытка навязать модель цивилизации, полностью соответствующую нуждам империалистической экспансии, острая необходимость подавить сопротивление народных масс, окрещённых у нас «сбродом», «негритянским стадом», «наплывом зверья», в Боливии — «немытыми ордами». И вот идеологи полуколоний, мастера «беспардонно и неуёмно чесать языками в душеспасительном раже» [Рене Савалета Меркадо, «Боливия: становление национальной идеи» (René Zavaleta Mercado, “Bolivia: crecimiento de la idea nacional”).], подпевают хору поклонников одного английского еврея, практично заметившего: «правам человека я предпочитаю права англичан». [Вероятно фраза является вольным парафразом мыслей из «Размышлений о революции во Франции» Бёрка (см., напр.: «В прославленном законе парламента 3-го созыва короля Карла I, именуемом «Петиция о праве», парламент обращается к королю со словами: «ваши подданные унаследовали эту свободу, обосновывая свои вольности не отвлеченными принципами, вроде «прав человека», но правами англичан, наследием своих предков»). — Прим. пер.].
Средние классы были и остаются наиболее благодатной почвой для культурной колонизации. Двойственная природа, роль прослойки между классами-антагонистами, доступ к благам цивилизации делают их крепкой опорой империализма, играющей значительную роль в ряде латиноамериканских стран.
Если в откровенно колониальной стране культурное завоевание важно, но второстепенно по сравнению с действиями армии страны-захватчика, в неоколониальных странах на определённых этапах захват культуры приобретает бóльшую значимость. Он «…институционализирует и выдаёт за норму зависимость. Главная цель этого вида насилия — сделать так, чтобы люди не осознавали его, чтобы они не ощущали себя жертвами неоколониализма и не захотели бы изменить своё положение. При такой форме господства педагогическая колонизация эффективно заменяет колониальную полицию [«Час печей» («Неоколониализм и насилие»).]».
СМИ вносят свой вклад в разрушение национального самосознания и общности коллективов, препятствуя их самоосмыслению. Разрушительная работа начинается уже тогда, когда ребёнок приобщается к средствам массовой информации, системе образования и культуре господствующего класса. В Аргентине ассимиляционная роль колонизаторов вкуса и мышления новых поколений роднит 26 телеканалов, миллион приёмников, более 50 радиостанций, сотни газет, журналов, тысячи пластинок и фильмов с системами школьного и университетского образования. «Для неоколониализма “массовые коммуникации” более эффективны, чем напалм. … Настоящее, истинное, разумное так же, как и сам народ, вне закона. … Насилие, преступление, разрушение становятся миром, порядком, нормой [Там же.]». Правда, таким образом, приравнивается к диверсии. Всякая форма самовыражения и взаимодействия, направленная на демонстрацию национальной реальности — диверсия.
Культурная узурпация, образовательная колонизация, СМИ сливаются в отчаянной попытке амортизировать, нейтрализовать, вытравить любые попытки борьбы с колонизацией. Неоколониализм предпринимает серьёзные попытки выхолостить, переварить культурные явления, выходящие за рамки его требований. Из творческих начинаний нужно вырвать всё продуктивное, всё потенциально опасное — то есть политическое. Нужно, чтобы творчество было отчуждено от дела борьбы за национальное освобождение.
Идеи в духе «красота сама по себе революционна», «весь новый кинематограф революционен» — всего-навсего идеалистические чаяния, не наносящие вреда неоколониальным позициям. Кино, искусство, красота воспринимаются в их ключе как универсальные абстракции; творческие усилия с таким подходом невозможно направить на национально-освободительную борьбу.
Всякая попытка отповеди, даже самая едкая, но при этом не способная мобилизовать, раскачать, политизировать народ, внести вклад в его подготовку к борьбе, воспринимается равнодушно, а то и благодушно. Ядовитость, нонконформизм, бунт ради бунта, неудовлетворённость — всё это объекты купли-продажи, продукты потребления. Тем более в ситуации, когда буржуазии даже необходим шок в разумных дозах, необходимы всплески контролируемого насилия — насилия, переваренного системой, насилия, от которого оставили лишь бессмысленную жестокость [Ср. привычку парижской и римской буржуазной аристократии ездить на выходные в Сайгон, чтобы вблизи наблюдать атаки Вьетконга.]. Остросоциальные произведения, радостно принимаются, они желанны новой буржуазии, ведь могут расцветить её недовольство. Авангард, которому рукоплещет господствующий класс — это прогрессивные литераторы, писатели, озабоченные поисками универсального смысла, проблемой человека вне времени и пространства. Вписанным в систему издательствам, журналам с демократической щедростью предоставляют площадку. «Протестное» кино выходит на рынок сбыта, его продвигают прокатчики-монополисты. «В действительности возможности протеста гораздо шире границ, официально установленных системой. Эти границы заставляют деятелей искусства верить, что они борются с системой, выходя за “допустимые” пределы. Они не осознают, что “антисистемное” искусство система может поглотить и использовать в своих целях — как сдерживающий фактор, как необходимую критику [Ирвин Сильвер, «США: отчуждение культуры» (Irwin Silver, “USA: la alienación de la cultura”).]».
Создателям прогрессистских альтернатив недостаëт осознания того, что нашу культуру превращают в их идеологическое орудие, им недостаёт политической сознательности. Поэтому они превращаются в системных левых, в средство улучшения культуры самой системы, в левых, обречëнных осуществлять то левое, что могут позволить им правые, в левых, продлевающих таким образом жизнь правым. «Вернуть слова, действия, образы туда, где они смогут выполнять революционную роль, где они действительно пригодятся, где станут орудием борьбы [Аргентинская Группа авангардных пластических искусств.]». Включить произведение искусства в освободительный процесс, но не как произведение «искусства», а как порождение самой жизни, растворить эстетическое в социальном — вот какие, по нашему мнению (с чем согласился бы и Фанон), действия сделают деколонизацию возможной, а культуру, кино, красоту (по крайней мере, эти вопросы волнуют нас здесь больше всего) — нашей культурой, нашим кино, нашей красотой.
III. Неоколониальные кинематографические модели Аргентины. Первый и второй кинематограф
Кинематограф, как и культуру в целом, нужно называть национальным не по факту принадлежности деятелей к территории в определëнных географических границах. Национальный кинематограф прежде всего отвечает конкретным нуждам освобождения и развития каждого народа. Кино в наших странах, в странах с зависимыми базисом и надстройкой (поэтому они только «развивающиеся»), тоже является зависимым — отчуждённым и «развивающимся».
Когда-то, уже давно, можно было рассуждать о немецком, итальянском, шведском кинематографах — очень разных, отвечающих чертам национальных культур. К сегодняшнему дню различия пропали. Границы стирались с распространением империализма янки, с навязыванием ими, хозяевами производства и рынка, американского кино. В наше время среди коммерческих и даже среди большей части так называемых авторских фильмов трудно найти произведение, не вписывающееся в американский киношаблон. Влияние этих шаблонов таково, что даже «монументальные» картины последних лет, снятые в социалистических странах, монументальны прежде всего в своем копировании голливудских моделей, породивших, как сказал Глаубер Роша [Глаубер Роша (1939-1981) — бразильский кинорежиссер, основатель «Нового кинематографа» (порт. “Cinema Novo”), — направления, близкого «Третьему кинематографу» и считающегося некоторыми критиками его составной частью. Как теоретик наиболее известен программным текстом «Эстетика голода» (1965), как режиссер — трилогией, состоящей из фильмов «Бог и дьявол на земле Солнца» («Deus e o Diabo na Terra do Sol», 1964), Земля в трансе («Terra em Transe», 1967) и «Дракон зла против святого воителя» («O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro», 1969). — Прим. ред.], подражательное кино. Следование американским моделям, пусть даже только в плане киноязыка, ведёт к усвоению известных аспектов идеологии, обеспечившей появление именно таких приёмов, установление именно таких отношений между произведением и зрителем. Бездумное перенятие концепции кино как зрелища, созданного для просмотра в больших залах, с заданными стандартами хронометража, с замкнутыми на себе сюжетами, существующими исключительно в экранном пространстве, соответствует интересам продюсеров, а также воплощает буржуазные концепции существования человека, то есть развивает буржуазные понятия XIX века об искусстве, где человеку отводится пассивная роль, роль потребителя. Отрицается способность человека творить историю — ему позволено только читать и слушать о ней, любоваться ею, претерпевать её.
Человеческое существование, исторический процесс загнаны в раму, на подмостки, заперты между переплётными крышками, сжаты до выхваченного проектором участка. Такое положение дел — максимум, до которого смогло подняться буржуазное искусство.
Отношение к человеку как к пассивному «поглотителю» искусства чудесно сочетается с философией империализма и стремлением получить прибавочную стоимость, сделав из кино рыночный товар. Получается не кино для человека, а человек для кино. Поэтому у нас засилье фильмов, чётко продуманных маркетологами, социологами, психологами, вечными исследователями грёз и страхов масс. Кино должно продавать жизнь: жизнь «как в кино», реальность, которую нарисовали господствующие классы.
Американская киноиндустрия навязывает не только модели фильмов и киноязык, но и модели производства и проката, а также технические аспекты. 35-миллиметровая камера, 24 кадра в секунду, дуговые лампы, большие кинозалы, стандартизированное производство, кастовая система внутри индустрии… Всё это работает не на удовлетворение культурных и экономических потребностей всех классов, а на процветание американского финансового капитала.
В контексте развития индустрии подобного типа и её коммерческих структур возникают специализированные организации, фестивали, официальные школы и, как следствие, журналы, критики, сопровождающие и оправдывающие эти явления. Мы глядим в рот господствующему кинематографу, идущему из метрополий в зависимые страны и находящему там рьяных последователей. В отличие от доминирующих стран, в Аргентине киноиндустрия очень слаба и располагает скудными возможностями развития, а по важности едва ли превосходит производство зубочисток. Кино здесь генерирует идеологию, служит для передачи информации определённого сорта, используя практически рудиментарные средства производства. Первый наш ответ первому кинематографу — так называемое авторское кино, кино-самовыражение, «новый кинематограф».
Этот — второй — кинематограф говорит об очевидном прогрессе в отвоевании автором права на самовыражение вне установленных стандартов, что уже ведёт к попытке культурной деколонизации. Развивается новый подход к созданию фильмов, новые работы прибавляются к тем, что уже составляют авангард аргентинского кино — ленты Карриля, Торре Нильссона, Айалы, Фельдмана, Муруа, Коона, Куна и Фернандо Бирри; «Бросьте монетку!» последнего даёт начало аргентинскому документальному кино.
Второй кинематограф начал обрастать собственными механизмами распространения фильмов, местами для показа (в основном это киноклубы, арт-хаусы), идеологами, критиками, журналами. С другой стороны, возникло превратное желание развить автономные структуры, которые могли бы конкурировать с системой первого кинематографа; утопичная идея завоевать ту самую крепость. Типичное проявление зависимой капиталистической модернизации, выраженное в реформистском стремлении создать независимую киноиндустрию (замысловатую или более мощную) как вариант выхода из зависимого положения в этой сфере привело к тому, что выдающиеся деятели второго кинематографа, наоборот, попали в зависимость от идеологических и экономических требований господствующей системы. Так появилось как бы независимое кино, откровенно вписанное в систему и необходимое ей для драпировки своей культурной политики «демократической широтой».
В итоге — в Аргентине и метрополиях это очевидно — второй кинематограф в основном стал деятельностью нескольких группок людей, что-то о себе воображающих перед аудиторией, состоящей из дилетантской элиты. Развитие альтернативной системы в страстном желании победить господство системы правящей, давление на официальные органы, требования замены «плохого» чиновника на «прогрессивного», нападки на законы о цензуре и политику реформ — всё это в контексте нынешней политической ситуации доказывает абсолютную неспособность этих группок существенно повлиять на существующее соотношение сил. И хоть такой расклад очевиден ещё не везде, осознание ситуации — только вопрос времени, по крайней мере если учитывать положение киноискусства в неоколониальных регионах и их историческую перспективу. Политика давления, позволяющая добиваться существенных изменений в системе, реальна в странах, где режим может ослабеть или отступить. Но в Латинской Америке и ещё не освобождённых странах Третьего мира ситуация уже другая. Исторические перспективы указывают вовсе не на ослабление репрессивной политики, а наоборот. В Аргентине «университетскую автономию» не отменяли, пока она не несла угрозы неоколониальному порядку. Цензуры не было, пока нечего было цензурировать. Никто не изъявлял желание и не демонстрировал способность всерьёз бороться с существующим строем. Но сейчас ситуация изменилась. Уже осыпался фасад буржуазной демократии. Насилие, пытки, жестокие репрессии, убийства — число преступлений будет только множиться в долгой войне за национальное и социальное освобождение Латинской Америки. Они признаются или игнорируются, но игнорирование — тоже вид признания.
Что может сделать в этой ситуации реформистская политика? Какие возможности развития есть у нового кинематографа, который, желая остаться верным стремлению бороться с колонизацией, видит, что ворота крепости захлопываются перед ним?
«Сейчас в Латинской Америке нет места ни пассивности, ни наивности. Ответственность интеллектуала измеряется степенью его риска — не одними словами и идеями, но действиями, направленными на освобождение. Бастующий рабочий, рискующий работой и самой жизнью; студент, поставивший на карту свой дальнейший жизненный путь; революционер, не сдающийся под пытками — такие люди, их действия обязывают нас делать что-то большее, чем вялая демонстрация солидарности [«Час печей» («Насилие и освобождение»).]». В ситуации, когда силовое государство заменяет правовое, человек должен сделать выбор. Деятельность бойцов культурного фронта должна всё больше радикализироваться чтобы не отходить от собственных принципов и шагать в ногу со временем. Какие ещё возможности развития существуют у этого экспериментального второго кинематографа, кроме как cоздавать — при этом активно пользуясь всеми лазейками, которые ещё остаются в системе — работы, всё более для этой системы неудобоваримые, всё более открыто направленные на борьбу с ней? Есть ли какая-то альтернатива помимо погружения в третий кинематограф — синтез самых полезных экспериментов, отброшенных вторым кинематографом? Для тех, кто отважится на это погружение, кино перестанет быть «генератором идеологии»; оно станет средством передачи нашей правды, оно будет глубоким и по-настоящему подрывным. Структуры, механизмы распространения, реклама, идеологическое воспитание, язык, экономическая поддержка существенно важны, но главное, что все эти аспекты подчиняются ключевой необходимости — необходимости передачи наших идей, идей, которые помогут, в рамках возможностей киноиндустрии, привести к освобождению отчуждённого и порабощённого человека. Ради этой цели — единственной цели, придающей сегодня смысл работе режиссёра, освободившегося от колониального сознания, — нужно создать материальную и духовную базу для этого третьего кинематографа, определяемого господствующей системой как подрывной. Да, поначалу эти базы будут очень узкими. Их судьба неразрывно связана с глобальными процессами освобождения. Третий кинематограф не ставит своей целью завоевание «крепости» кино — он знает, что её не завоевать, пока не будет взята политическая власть.
IV. От их кино к нашему: третий кинематограф
Неоколониализм очень хорошо справился с задачей отчуждения интеллектуалов, прежде всего деятелей искусства, от национальной реальности посредством «вневременного искусства и общечеловеческих смыслов». Художники и интеллектуалы обычно идут в хвосте народно- освободительной борьбы — если вообще не противодействуют ей. Над созданием национальной культуры, понимаемой как импульс деколонизации, лучше всего трудились не просвещённые элиты, а именно наиболее эксплуатируемые и нецивилизованные слои. Не зря поэтому в массовых организациях никогда особо не доверяли «интеллектуалам» и «художникам» — большинство из них не занималось конкретными действиями, их ограничивала ими же заявленная политика «мира и демократии». Они боялись всего «национального», им было страшно заразить искусство политикой, самим заразиться революционностью народного борца. Таким образом они затушёвывали внутренние причины, определяющие противоречия неоколониального общества, выдвигая на первый план внешние явления, которые «являются необходимым условием изменений, но не их причиной [Мао Цзэдун, «Относительно противоречия» (в оригинале произведение Мао указано ошибочно: «Относительно практики». — Прим. пер.).]». Как, например, в Аргентине — антиимпериалистическая борьба и борьба с местной олигархией подменяется борьбой демократии против фашизма, при этом подавляется фундаментальное противоречие ситуации в неоколониальной стране, оно заменяется «копией мирового противоречия [Родольфо Пучгрос, «Пролетариат и национальная революция» (Rodolfo Puiggrós, “El proletariado y la revolución nacional”).]».
Отчуждение интеллектуальных слоёв от национально-освободительной борьбы помогает добиться эффективных результатов в политизации и мобилизации кадров и даже в работе на массовом уровне, где это возможно. Студенты, вышедшие 18 июля на баррикады перед показом фильма Марио Андлера [Марио Андлер (р. 1935) — уругвайский режиссёр, один из наиболее известных членов коллектива кинематографистов, сформировавшегося вокруг «Синематеки Третьего мира» в Монтевидео (осн. 1967) и создавшего социально-политическую школу национального кино. После военного переворота 1971 г. группа подверглась репрессиям, а фонды «Синематеки» были уничтожены, хотя впоследствии организация смогла восстановиться. Андлер оказался среди тех, кому удалось, избежав тюрьмы и пыток, эмигрировать в Венесуэлу; на родину он вернулся только в 1999 г. — Прим. пер.] «Люблю студентов» в Монтевидео, или спонтанные манифестанты, поющие «Интернационал» в Мериде и Каракасе после показа «Часа печей», растущий спрос на фильмы Сантьяго Альвареса и других режиссёров, кубинское документальное кино, дебаты, мероприятия и собрания, проводящиеся благодаря подпольному или полуподпольному распространению фильмов третьего кинематографа пролагают тернистый путь, уже открытый в странах общества потребления массовыми организациями («Свободный киножурнал» в Италии, документальное кино японской студенческой ассоциации «Дзэнгакурен», и т.д.). Впервые в Латинской Америке появляются организации, готовые использовать политико-культурный потенциал кино: чилийская Социалистическая партия просвещает свои кадры, снабжая их революционным кинематографическим материалом, революционные перонистские и неперонистские группы в Аргентине тоже интересуются им. И OSPAAL [Организация солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки. — Прим. пер.] помогает в производстве и распространении фильмов, которые вносят свой вклад в антиимпериалистическую борьбу. В революционных организациях обнаруживается потребность в кадрах, которые, помимо прочего, умеют работать с камерой, звуковым оборудованием, проектором. Политический авангард и авангард творческий сходятся в отвоевании власти у врага; общая задача взаимообогащает эти два фронта.
V. Прогресс и демистификация техники
Проблемы с оборудованием, технические трудности, обязательная узкая специализация на каждом этапе работы, большие затраты — факторы, до недавнего времени мешавшие использовать кино как революционный инструмент. Достижения в этих областях — упрощение камер, аппаратов звукозаписи, новые возможности перемотки, «моментальная» плёнка, которую можно проявить при естественном освещении, автоматические экспонометры, прогресс в сведении звука и изображения вместе с распространением знаний через массовые журналы и даже неспециализированные СМИ — сыграли большую роль в демистификации киноискусства, в погашении волшебного ореола, отделявшего людей от творчества «артистов», «гениев», «избранных». Кино становится всё ближе к народу. Опыты Криса Маркера во Франции — обучение рабочих основам съёмки на 8-миллиметровую плёнку и проекты, направленные на выражение их видения мира посредством кино — открывают новые перспективы, показывают новые принципы кино и новый смысл искусства нашего времени.
VI. Кино разрушения и созидания
Империализм и капитализм, будь то в обществе потребления или в неоколониальной стране, приукрашивают и искажают реальность. Выигрышный образ реальности значит больше, чем она сама. Это мир, населённый фантазиями и фантомами, здесь уродство выдают за красоту, а красоту объявляют уродством. Фантазии — сверкающие буржуазные миражи комфорта, гармонии, мира и порядка, плодотворности, возможность «быть кем-то». А фантомы — это мы, отсталые лентяи, безучастные виновники разрухи. Когда кто-то из нас признаёт всё это, он превращается в Ганга Дина [Персонаж одноимённого стихотворения Р. Киплинга, индиец, спасший жизнь британского солдата ценой своей собственной; по всей видимости, авторы прежде всего имеют в виду образ из голливудского фильма (1939), созданного на основе этого стихотворения. — Прим. пер.], осведомителя на службе колониста, отрицающего свой класс и расу дядю Тома или Тонто [Персонаж американской массовой культуры, индеец со стереотипным «индейским» говором и поведением, спутник мстителя в маске по прозвищу «Одинокий рейнджер»; здесь особая ирония в том, что по-испански его имя совпадает со словом «глупец» (поэтому в переводах на испанский оно звучит по-другому, например, «Понто» или «Торо»). — Прим. пер.] — усердного слугу-марионетку. Если же мы пытаемся противостоять положению дел — нас называют обиженными жизнью, дикарями, людоедами. Для тех, кто «не спит из-за страха перед теми, кто не ест» революционер — правонарушитель, разбойник, насильник. То есть в первую очередь с ним нужно бороться не на политической арене, а на улице, с помощью полиции и законов. Чем больше подавляют человека, тем глубже он погружается в осознание собственной ничтожности; сопротивляясь, он получает клеймо зверя. Вот герои фашиста Якопетти в фильме «Прощай, Африка» — африканцы-дикари, кровожадные убийцы; отринув покровительство белых, они тут же погрузились в пучину гнусной анархии. Тарзан умер — и родился Лумумба, родились Лобенгула [Лобенгула (1836/1845–1894?) — последний верховный вождь бантуязычного народа матабеле, проживающего в совр. Зимбабве. В 1893 г. организовал сопротивление британским захватчикам, однако умер в конце года, вероятно, от болезни. Борьба против колонизаторов продолжалась до 1897 г. — Прим. пер.] и Мадзимбамуто [Имеется в виду чета из Родезии (ныне Зимбабве), Даниэль Мадзимбамуто, борец за права черной Африки, и его жена Стелла, подавшая в 1965 г. иск против родезийских властей в связи с незаконным арестом мужа: дело оказалось громким, поскольку в его ходе пришлось рассматривать казус колониальной конституционной системы Британии. — Прим. пер.]: такого неоколониализм не прощает. Фантазия превращается в фантомы, человек превращается в придаток смерти — и Якопетти может спокойно запечатлевать происходящее.
Делаю революцию, следовательно, существую. Теперь фантазии и фантомы тают, уступая место живому человеку. Революционное кино — кино разрушения и созидания. Разрушения колониального образа как системы, так и нас самих. Созидания яркой, бурлящей реальности, отвоевания правды во всех её проявлениях.
Придание всему подлинного значения — поистине подрывная деятельность в неоколониальной стране и в стране общества потребления с привычным двуличием и псевдообъективностью прессы, литературы и т.п., с относительной, контролируемой или монополизированной свободой выражения в общественных организациях. В этом смысле весьма показательны майские события во Франции.
В мире под управлением ирреального художественное творчество реализуется через фантазию, вымысел, коды, знаки, шёпот и записями между строк. Искусство отстраняется от конкретных фактов, свидетельствующих против неоколониализма, и зацикливается само на себе, куражится в мире абстракций и призраков, выпадает из времени и истории. В произведении может идти речь про Вьетнам или Латинскую Америку, но оно не о Вьетнаме и Латинской Америке, если в нём нет побуждения к политическому действию.
Кино, называемое документальным — что бы под этим понятием ни подразумевалось, от учебных фильмов до реконструкции фактов и событий, — составляет, возможно, фундамент революционного кинематографа. Каждый кадр, который документирует, свидетельствует, опровергает, который углубляет понимание правды, — не просто изображение на плёнке или «чистый» акт искусства; это нечто неудобоваримое для системы.
Свидетельства о национальной жизни являются бесценным средством диалога и распространения знаний. В международной борьбе ни за что не достичь успеха без взаимного обмена народов опытом, если не прекратится балканизация [То есть раздробление в той или иной мере исторически связанного общими интересами региона на противостоящие друг другу сектора (процесс назван по примеру Балкан под властью Османской империи). — Прим. пер.], которую империализм пытается поддерживать на мировом, континентальном и национальном уровнях.
VII. Кино-действие
Подступиться к изучению реальности невозможно, пока не начата работа по изменению этой реальности, работа на каждом фронте борьбы. Нужно почаще вспоминать знаменитое высказывание Маркса. Недостаточно объяснить мир, его нужно изменить.
Режиссёр должен применять именно такой подход и, исходя из него, открыть свой собственный язык, который станет результатом его как его активного, преобразующего мировоззрения, так и развития темы, которую режиссёр захочет осветить. Здесь нужно подчеркнуть, что среди старых политических кадров ещё бытует догматическое мнение о деятелях искусства — от них ждут лишь апологетического изображения реальности, скорее «желаемого», нежели «действительного». В таких взглядах на искусство скрыто недоверие к возможностям самой реальности, что приводит в определённых случаях к использованию киноязыка как средства идеализированного изображения фактов, к стремлению изъять из реальности её глубинные противоречия, диалектическое разнообразие — изъять всё то, что может сделать фильм подлинно прекрасным и действенным. Несмотря на неоднозначные и негативные аспекты, революционные процессы во всем мире имеют общий доминирующий принцип: глубокий и вдохновляющий синтез, который невозможно свести к индивидуальным и сектантским подходам.
Кинопамфлеты, кинорепортажи, киносвидетельства, киноэссе, дидактические ленты — важны все виды кинематографа борьбы, и абсурдно диктовать ему эстетические стандарты. Принять у народа всё и отдать ему всё лучшее или, как сказал бы Че, проявить уважение к народу тем, что сделать его лучше. Нельзя забывать об этом перед лицом подспудных устремлений, всегда присущих деятелям революционного искусства: свести форму и содержание своей работы к какому-нибудь неопопулизму или такому сценарию, где хоть и будет место движению масс, они не получат средств избавления от балласта империализма. Действенность лучших примеров революционного кино показывает, что классы, считающиеся отсталыми, прекрасно понимают визуальные метафоры, эффекты монтажа, языковые эксперименты — любые приёмы, служащие раскрытия идеи.
Главный же смысл революционного кинематографа не в том, чтобы проиллюстрировать, задокументировать, бесстрастно запечатлеть ситуацию, а в том, чтобы попытаться повлиять на неё, дать импульс к изменению, к исправлению. Не описательный кинематограф свидетеля, а кинематограф действия, кино-действие, побуждающее к действию.
VIII. Кино и конкретные обстоятельства
Различия в освободительных процессах не позволяют предписывать всем нормы, которые некоторыми самонадеянно считаются универсальными. Обучение обращению с оружием можно назвать революционной деятельностью там, где уже оформился социальный слой, стремящийся к завоеванию буржуазной политической власти, но оно не может считаться таковой, если массы пока ещё не осознали, кто является их настоящим врагом — или пока не поняли, как быть с этим осознанием. Вот и кинематограф, стремящийся к обличению колониального угнетения, просто вступает в реформистскую игру, когда ключевые слои населения уже достигли нужного понимания и начали искать пути избавления от угнетения с оружием в руках. Иными словами, в неоколониальном обществе империализм может, ничего не опасаясь, поддержать фильм о борьбе с неграмотностью, а вот кубинский фильм первых послереволюционных лет, посвящённый ликвидации неграмотности на острове, сыграл в высшей степени революционную роль. Такую же роль играет сейчас простое вовлечение обычных людей в процесс съёмки кино, обучение их работе с камерой.
IX. Идеальное кино – принцип и заблуждение
Модель совершенного произведения искусства, идеального фильма, сформулированная в соответствии с лекалами, навязанными буржуазной культурой, её теоретиками и критиками, в зависимых странах служила средством ограничения режиссёра, особенно когда предпринимались попытки внедрить подобные модели в обществе, в котором ни культура, ни техника, ни даже элементарнейшие условия не могли поспособствовать их реализации. Культура метрополии охраняла древнюю тайну происхождения этих моделей, и перенос их в неоколониальную реальность запускал механизм отчуждения. Собственно, это и было целью. В сфере кино стремление «выйти на уровень» доминирующих стран обычно заканчивается неудачей, учитывая огромную разницу между двумя мирами. Невозможность решения задачи влечёт за собой разочарование, ощущение неполноценности. Однако прежде всего эти чувства растут из страха пойти совершенно новыми путями, отрицающими практически всё, что предлагает их кино, страха признать ситуацию зависимости во всех её аспектах, со всеми её ограничениями; а её нужно признать, чтобы открыть адекватные этой ситуации возможности, найти абсолютно новые способы её преодоления.
По-настоящему революционный кинематограф невозможен без постоянного и последовательного обучения новому, без поиска, без эксперимента.
Партизанское кино пролетаризирует режиссёра, лишает его титулов интеллектуальной аристократии, раздаваемых буржуазией своим присным; оно демократизирует его. Связь режиссёра с реальностью приближает его к народу. Авангардные слои, да и массы присоединяются к работе, когда видят, что она — продолжение их ежедневной борьбы. «Час печей» — пример того, как в самых враждебных обстоятельствах можно снять фильм при участии революционеров и народных масс.
Революционные кинематографисты отталкиваются от радикально нового видения своей роли, нового видения коллективной работы, инструментария, всех деталей. Во-первых, нужно самим искать средства для производства фильмов, покупки техники. Режиссёр должен владеть навыками обращения со всей многочисленной техникой. Его главная ценность — инструментарий, полностью подчинённый творческой задаче. Камера неустанно подносит изображения-патроны, проектор даёт 24 кадра-выстрела в секунду.
Каждый член съёмочной группы должен иметь как минимум общее представление об используемом оборудовании, чтобы в случае необходимости можно было подменять друг друга на любом этапе создания фильма. Нужно разбить миф о незаменимых специалистах.
Все члены группы должны придавать огромное значение деталям производства и обеспечению его безопасности. Непредусмотрительность, которая в обычном кино не всегда причиняет вред работе, в партизанском кинематографе может загубить недели и месяцы труда. Неудача в боевом кино, как и вообще в герилье, может означать потерю всего достигнутого или изменение всех планов. «В герилье поражение нередко выглядит в тысячу раз реальнее победы, которая начинает казаться неким мифом, существующим исключительно в мечтах революционеров» [Эрнесто Че Гевара, «Партизанская война как метод». Цитирование неточное — у Гевары речь идёт о смерти, а не о поражении; к тому же в оригинале — по крайней мере, в веб-версии — указано неверное произведение автора, а именно написанная раньше цитируемой статьи книга «Партизанская война». — Прим. пер.]. Требуется огромное внимание к деталям, дисциплина, темп, а главное, готовность преодолевать слабости, стремление к комфорту, старые привычки, понимать, что за видимостью нормальности кроется ежедневная борьба. Новый фильм — новое дело, отдельная работа. Нужно каждый раз менять тактику, чтобы дезориентировать или не будоражить врага, тем более пока средства кинопроизводства — в его руках.
Успех работы в значительной степени основан на умении съёмочной группы держать язык за зубами, на постоянной настороженности. Этого трудно достичь, когда, казалось бы, ничего не происходит, а режиссёр привык болтать обо всём, что делает — ведь это залог его престижа успеха, к этому его приучила буржуазия. Самый актуальный девиз революционного кинематографа — «постоянная бдительность, постоянная настороженность, постоянная готовность к манёвру». Работать с полной отдачей, иногда прыгая в неизвестность, встречая грудью поражение подобно партизану, идущему по дорогам, которые он сам же и прорубает взмахами мачете. Уметь подойти к границе изведанного, лавировать между опасностями, подстерегающими на каждом шагу — значит иметь возможность открывать, изобретать новые кинематографические формы и системы, которые послужат более глубокому пониманию нашей реальности.
Наше время — это время гипотез, а не тезисов, время незавершённых, сумбурных, жестоких работ, фильмов, снимаемых с камерой в одной руке и камнем в другой, картин, к которым невозможно подойти с канонами традиционной теории и критики. Из неподконтрольного труда и экспериментов и разовьётся новая теория, новые критические подходы. «Познание начинается с практики; обретя через практику теоретические знания, нужно вновь вернуться к практике» [Мао Цзэдун, «Относительно практики».]. На практике революционный режиссёр столкнётся с бесчисленными препятствиями, от него отвернутся те, кто жаждет похвал от системных средств пропаганды, и он увидит, что сами эти средства для него недоступны. По Годару — перестанет быть чемпионом по велоспорту и станет безвестным велосипедистом из какого-нибудь Вьетнама, погрузившимся в жестокую затяжную войну. Но также он увидит, что существует публика, воспринимающая его работу как часть собственной жизни, готовая разделить эту работу и защищать её. Добиться этого не под силу ни одному чемпиону по велоспорту.
X. Партизанская съёмочная группа
Деятельность партизанской съёмочной группы регулируется строгими дисциплинарными нормами, как в плане рабочего процесса, так и в плане безопасности. Это столь же необходимо для успеха, как необходима военная дисциплина и военное понимание кадрового состава для успешного ведения партизанской войны. Нужно уяснить, как действуют идеологические ограничения, в которых куются кадры. Партизанам и деятелям прогрессивного искусства должно стать очевидно, что невозможно уничтожить врага, не объединившись в борьбе, не поняв, что интересы обеих групп действительно совпадают.
Художник начинает понимать, что одного личного нонконформизма недостаточно. В свою очередь революционные организации начинают осознавать пустоты, порождаемые в области культуры борьбой за власть. Трудности кинопроизводства и идеологические ограничения режиссёров зависимых стран стали, среди прочих факторов, причиной того, что массовые организации до сих пор не уделяли должного внимания искусству кинематографу. Печать, наглядная пропаганда, выступления, устное политическое просвещение остаются основными средствами общения организаций и авангардных слоёв населения с широкими массами. Но изменение положения некоторых кинематографистов и, как следствие, появление фильмов, вносящих вклад в освобождение, помогли передовым классам понять важность кино. Значение его заключается в том, что этот вид искусства тоже является средством общения; особенности кинопроизводства дают возможность кооперации разных сил и людей, которые не могли бы встретиться, скажем, на каком-нибудь собрании или партийном мероприятии. Кино становится действенной причиной собраться вместе и добавляет к заряженности людей свой заряд, присущий ему как виду деятельности.
Способность киноизображения к синтезу, глубина его воздействия, возможность стать живым документом и показать реальность без прикрас, просветительская сила аудиовизуальных средств кино намного превосходит любые другие средства массовой коммуникации. Cтоит ли говорить, что картины, где удаётся эффективно применить возможности изображения, вложить адекватное количество идей, использовать подходящие к каждой теме язык и структуру, ввести аудиовизуальный контрапункт [То есть какое-либо несоответствие видео- и звукоряда, которого добиваются намеренно с целью произвести тот или иной эффект на зрителя. — Прим. пер.], добиваются значительных результатов. То же самое и с деятельностью группы революционных режиссёров. Группа существует как совокупность обязанностей, как сумма и синтез способностей, как гармоничная централизованная работа с руководством, осуществляющим планирование и отвечающим за дальнейшее развитие. Опыт показывает, что нелегко поддерживать сплочённость группы при постоянных атаках системы и вереницы сообщников системы, часто выдающих себя за «прогрессистов», когда не хватает мгновенных впечатляющих результатов, зато в избытке неудобств и стресса от осознания подпольного характера процесса и работы и распространения продукта. Возникновение внутренних конфликтов — неизбежная реальность, не зависящая от идеологической зрелости членов группы.
Сотрудничество кинематографических групп разных стран послужит гарантией завершения фильма или его определенных этапов, если это невозможно в стране, где его начали снимать. К причинам международного сотрудничества нужно добавить потребность создания центрального архива материалов, которые были бы доступны всем, необходимость в перспективе координировать работу групп в каждой стране на континентальном, а возможно и на мировом уровне, возможность регулярных региональных или всемирных встреч для обмена опытом, планирования работы и т. д.
XI. Прокат фильмов третьего кинематографа
Революционному режиссёру и его группе придётся самим финансировать свою работу — как минимум на начальных этапах. На них — вся ответственность за поиск способа возмещения экономических затрат, позволяющего продолжать деятельность. У партизанского кинематографа нет предшественников, которые могли установить определённые нормы; имеющийся опыт главным образом показывает, что режиссёры должны пользоваться конкретными ситуациями в конкретной стране. Но какими бы ни были эти ситуации, невозможно готовить съёмку картины, если параллельно с этим не изучается потенциальный её зритель и, следовательно, не разрабатывается план по возмещению вложений. И тут мы снова сталкиваемся с необходимостью более тесных отношений между художественным и политическим авангардом, обеспечивающих совместное изучение форм производства, развития и проката кино.
Партизанское кино не может опираться на другие механизмы распространения кроме тех, что стали возможными благодаря революционным организациям; в их числе и тех, которые изобретает или открывает сам режиссёр. Производство, распространение и экономические условия выживания должны быть частью одной стратегии. Решение встающих на каждом этапе проблем должно побуждать других людей присоединяться к созданию партизанского кино, пополнять и укреплять наши ряды.
Распространение нашего кино в Латинской Америке только начинается, но системные репрессии уже узаконены. Достаточно посмотреть на рейды на некоторых выставках и последний репрессивный закон о кино чисто фашистского характера в Аргентине, на ужесточение ограничений для наших боевых товарищей из “Cinema Novo” в Бразилии. Цензура в большинстве стран континента старается подавить любую возможность широкого проката фильмов. Без революционных картин и без нуждающейся в них публики любая попытка открыть новые формы проката была бы обречена на провал. В Латинской Америке есть и публика, и фильмы; их появление открыло дорогу, которая в Аргентине, например, проходит через квартиры, где число участников никогда показа не превышает двадцати пяти человек; в Чили — через церковные приходы, университеты или культурные центры (с каждым днём их всё меньше); а вот в Уругвае — через самый большой кинотеатр Монтевидео, где люди, заполняющие зал на две с половиной тысячи мест, превращают кинопоказ в акт антиимпериалистического сопротивления [Уругвайский еженедельник «Марча» организует полуночные и воскресные утренние показы, находящие широкий живой отклик.]. В целом перспективы на континенте указывают на то, что возможность развития революционного кинематографа обеспечивается поддержкой в подавляющем большинстве подпольных структур.
Ошибки и поражения в нашей практике неизбежны [Ср. нападение на профсоюз в Буэнос-Айресе и арест двухсот человек из-за неправильного выбора места для показа и слишком большого числа приглашённых.]. Некоторым товарищам вскружит голову успех и безнаказанность первых показов, им захочется ослабить бдительность; другие, из страха, из-за чрезмерных опасений, станут внедрять такие жёсткие ограничения, что фильм сможет посмотреть лишь узкий круг друзей. Только специфический опыт на местах покажет, как лучше действовать — не все методы можно автоматически применять в любой ситуации.
Где-то можно будет опереться на политические, студенческие, рабочие организации. Где-то — выпускать ленты самим и продавать организациям копии.
Такой способ работы везде где только возможно кажется наиболее гибким, поскольку он позволяет децентрализовать систему проката, делает процесс проката менее уязвимым, ускоряет распространение фильмов на уровне страны, позволяет лучше использовать кинематограф в политических целях и даёт возможность вернуть вложенные в съёмку средства. Конечно, не во всех странах организации до конца осознают важность нашей работы, или, если и осознают, то зачастую не располагают для нужными для неё средствами. Тогда ищутся другие пути.
Идеальная цель — создание и распространение фильмов партизанского фильм на деньги, полученные путём экспроприации, то есть чтобы именно буржуазия заплатила за них прибавочной стоимостью, полученной путём эксплуатации. Но пока эта цель остаётся лишь среднесрочным или долгосрочным устремлением, реальные наши возможности возмещения затрат на съёмку и прокат в каком-то смысле похожи на те, которые действуют в обычном кино. Каждый зритель нашего показа должен внести сумму не меньше стоимости билета в обычном кинотеатре. Финансовая поддержка, оснащение и содержание нашего кинематографа — это политические обязанности революционеров и революционных организаций. Можно снять фильм, но его прокат не окупит вложенных средств; будет сложно или невозможно снять следующий.
Киноплёнка 16-мм в Европе — 20 000 залов в Швеции, 30 000 во Франции и т. д. — не лучший пример для неоколониальных стран, но этот аспект нужно принимать во внимание при изыскании средств, тем более, в ситуации, когда эта самая плёнка может играть важную роль в распространении антиимпериалистической борьбы в Третьем мире, всё больше связывающейся с борьбой в метрополиях. Одна картина о герилье в Венесуэле расскажет людям метрополии больше, чем двадцать брошюр; и нам расскажет гораздо больше именно фильм о майских событиях во Франции или о положении студентов в Беркли, США.
Интернационал партизанского кино? Почему нет? Разве прямо сейчас, в ходе борьбы OSPAAL в Третьем мире и революционных авангардных классов в обществах потребления, не рождается своего рода новый Интернационал?
XII. Кино-действие = зрители и главные герои
Партизанский кинематограф сегодня доступен ограниченным слоям населения. Являясь при этом единственным по-настоящему массовым кинематографом на сегодняшний день, только он выражает интересы, надежды, перспективы подавляющего большинства. Каждый наш значимый фильм, сделанный тайно или нет, — событие национального масштаба.
Кино для народа, вынужденное пока быть достоянием лишь отдельных его представителей, каждым показом, как революционным вторжением, освобождает, деколонизирует новую территорию. Фильм способен превратить собрание в своего рода политический акт, в котором, по словам Фанона, можно увидеть «священнодействие, особую возможность услышать и сказать».
В ситуации государственных репрессий партизанский кинематограф должен пользоваться всеми открывающимися возможностями. Стремление победить колониализм обязывает находить новые способы коммуникации, даёт оперативный простор.
При подготовке и во время съёмок «Часа печей» мы провели показы тех немногих антиколониальных фильмов, что у нас были. Приходили революционеры, кадры среднего звена, активисты, рабочие и студенты, и каждый показ безо всякого умысла с нашей стороны превращался в собрание некой укрупнённой ячейки; картина становилась элементом встречи, но не центральным фактором. До сей поры зритель мог участвовать в кино только пассивно; теперь же мы открываем новую сторону кинематографа. Порой из соображений безопасности мы пытались сделать так, чтобы пришедшие расходились сразу после окончания фильма, но быстро поняли, что показ не имеет никакого смысла, если дальше не происходит коллективного обсуждения.
Мы поняли, что товарищи, приходящие на показы, полностью осознают незаконность наших собраний и готовы понести ответственность за свои действия. Их уже нельзя назвать просто зрителями. Наоборот — с того самого момента, как человек решил прийти на показ, с того момента, как выбрал сторону, решив рискнуть и помочь нам своим живым участием, он действующим лицом — более важным, чем те, что на экране. Этот человек ищет таких же как он, товарищей, доказавших верность нашему делу, хочет объединиться с ними. Итак, зритель уступил место актёру, ищущему себя в других.
За пределами территории, которую может на короткое время освободить фильм, обычно остаётся одиночество, недоверие, страх, отчуждённость. А на отвоёванном участке все становились соучастниками процесса, развивавшегося здесь и сейчас. Спонтанно начинались дебаты. Мы набирались опыта. Мы стали внедрять в показы различные элементы, заостряющие тематику фильма, атмосферу той или иной сцены, встряхивающие участников: записанную музыку, стихи, пластические элементы, плакаты, ведущего, представляющего ленту и руководящего дебатами, вино, мате, и т.д. Постепенно стало ясно, что самое ценное, чем мы располагаем — это:
Товарищ-зритель, товарищ-актёр — соучастник действия;
Свободное пространство, где товарищи могут выразить свои сомнения и предложения, политически просветиться и сделать ещё один шаг к освобождению;
Фильм, который служит только поводом для собрания, катализатором.
Мы поняли, что фильм оказывает куда большее воздействие, если принимаются в расчёт вышеописанные вещи, если форма картины, её структура, язык подчиняются идее показа-собрания и его участникам; то есть, когда в подчинении и включении ленты в жизнь самых главных действующих лиц процесса заключается путь к освобождению.
С помощью правильного использования времени, которое предоставляли нам актёры- действующие лица с их историями, пространства, предоставляемого товарищами, с помощью самих фильмов, нужно было попытаться высвободить революционную энергию из времени, пространства и картин так таковых. Постепенно рождалась идея создания того, что мы назвали кино-актом, кино-действием, — играющего, на наш взгляд, важную роль в развитии третьего кинематографа. Кинематографа, чьи первые опыты были, возможно, совсем невнятными (вторая и третья части «Часа печей» — «Акт освобождения», особенно «Сопротивление» и «Насилие и освобождение»). «Товарищи, — говорили мы перед показом “Акта освобождения”, — это не просто кинопоказ, не просто представление; прежде всего это акт объединения против империализма. Он задуман только для тех, кто чувствует себя активным участником антиимпериалистической борьбы. Здесь нет места ни пассивному зрителю, ни сообщнику врага. Это место для реальных организаторов и участников борьбы — тех, кто делает наши ленты доказательством борьбы. Этот фильм — повод начать диалог и отыскать готовых к борьбе. Вот наш посыл, который мы хотим донести и обсудить с вами после просмотра». Перед показом ещё одного фрагмента второй части мы говорили: «Наибольшую важность имеют выводы, которые можете сделать вы, истинные авторы и главные герои фильма. Материал, собранный нами, наши собственные выводы имеют относительную ценность: они важны для настоящего и будущего нашего освобождения, но его настоящее и будущее суть вы сами; они служат вашей борьбе».
Кино-действие переносит вас в постоянно развивающийся, открытый кинотеатр, кинотеатр пытливого ума. «…первым шагом процесса познания является первое соприкосновение с явлениями внешнего мира — ступень ощущений [в фильме — ощущений от изображения и звука]. Вторым шагом является обобщение данных, полученных из ощущений, упорядочение их и переработка — ступень понятий, суждений и умозаключений [в фильме за эту ступень отвечают рассказчик, репортажи, пояснения, ведущий показа]. … Активная роль познания выражается не только в активном скачке от чувственного познания к рациональному познанию, но, что ещё важнее, в скачке от рационального познания к революционной практике… [Это и есть] диалектико-материалистическая теория процесса развития познания, основанная на практике» [Мао Цзэдун, «Относительно практики».].Практика при показе фильма-действия — это активное участие товарищей в обсуждении, возникающие вопросы и предложения, деятельность, которая разворачивается после просмотра. С другой стороны, каждый показ подразумевает разную программу, так как площадка для показа, реквизит, актёры-участники и ситуация всегда разные. Результат каждого показа будет зависеть и от его организаторов, и от участников, и от места и времени проведения; успех зависит также и от отсутствия границ в обсуждении. Показ фильма-действия всегда в той или иной форме отражает актуальную реальность. Потенциал третьего кинематографа не исчерпывается борьбой за власть. Его деятельность может продолжиться после победы революции и помочь в укреплении её позиций. Третий кинематограф — это незаконченный кинематограф, развивающийся и совершенствующийся в историческом освободительном процессе.
XIII. Установки третьего кинематографа
Партизанское кино, кино-действие со всей бесконечностью жанров — фильм-письмо, фильм- стихотворение, фильм-эссе, фильм-памфлет, фильм-репортаж и так далее — противопоставлен прежде всего индустриальному, ремесленному кино. Вместо элитарного кино — массовое; вместо авторского — кино рабочих групп. Вместо дезинформирующих колониальных фильмов — фильмы просвещающие; вместо лент для бегства из реальности — ленты, показывающие реальность. Вместо пассивного кино — агрессивное. Вместо конформистского кино — диверсионное. Вместо фильма-зрелища — фильм-действие. Вместо разрушающего кинематографа — кинематограф разрушения и созидания. Вместо картин, рассчитанных на старого человека — фильмы-пути к новому человеку. Возможности такого кинематографа — это мы сами. Деколонизация режиссёра и кино будет происходить одновременно с общей деколонизацией. Это битва вовне, битва с атакующим врагом, но в то же время это битва внутренняя, битва с врагом, который сидит внутри каждого из нас. Разрушение и созидание. Борьба с колониализмом направлена на сохранение в собственной практике самых чистых и жизненно важных устремлений. Революция сознания против колонизации сознания. Мир тщательно исследован и заново открыт. Человек удивляется всему, словно рождается заново. Он вновь обретает изначальную невинность, готовность к открытиям, пробуждается от спячки его способность возмущаться. Раскрытие запрещённой правды означает высвобождение энергии возмущения, необходимой для борьбы. Наша правда, правда нового человека, излечивающегося от язв прошлого — смертельная бомба неиссякаемого заряда и в то же время единственная реальная возможность жизни. Это рискованный эксперимент революционного режиссёра с революционным видением, революционной чуткостью, революционным воображением и революционным воплощением идей. Большие темы — история родной страны, любовные отношения революционеров, подвиг восстающего народа, — возрождаются перед камерами антиколониального кино. Впервые режиссёр чувствует себя свободным. Осознаёт, что внутри системы у него связаны руки, а вне и против системы возможно всё. Впереди много работы. Как мы говорили в начале, то, что казалось совершенно безумным, сегодня предстаёт как железная необходимость.
Вот такие у нас идеи. Это очень приблизительный набросок размышлений после нашей первой работы «Час печей». Мы не хотим, чтобы эти размышления казались чем-то уникальным, как будто они предполагают единственную модель поведения; это скорее предложения, полезные для углубления дискуссии о новых перспективах кинематографа ещё не освобождённых стран.
Пробовать многие другие модели кино, используя разные изобразительные или повествовательные концепции, языковые или кинематографические модели, не просто необходимо для опыта; в нашей ситуации это важнейшая задача для развития антиколониального кинематографа. Мы говорим не только об аргентинском кино — оно является неотъемлемой частью объединяющего нас в антиимпериалистической борьбе фронта, латиноамериканского кино в целом, вносящего вклад в освободительные процессы на континенте. Очевидно, что наиболее яркое выражение это кино находит на Кубе и в наших странах (пока не освобождённых) — от авангардного бразильского “Cinema Novo” и, в последнее время, также боливийского и чилийского кино до документальных фильмов-расследований и партизанских картин. Наш опыт, вклад в создание третьего кинематографа, должен умножаться и совершенствоваться в боевом единстве (фильмы, действия, события) всех латиноамериканских деятелей кино.
Мы понимаем, что один фильм, книга или картина не освободят нашу страну. Но её не освободят ни забастовка, ни мобилизация, ни акт вооруженной борьбы сами по себе. Каждое из них по отдельности, как и революционный фильм — боевая операция внутри целой битвы, которая идёт сейчас. Эффективность этих методов нельзя оценить заранее — только на практике. Количественное и качественное развитие всех практик так или иначе внесёт вклад в становление совершенно новой, подлинно антиколониальной культуры. Осмелимся сказать даже, что отдельный фильм, способствующий полному освобождению человека, может стать мощным политическим актом, так же как политический акт может быть красивейшим художественным произведением.
Почему именно кино, а не какое-нибудь другое средство художественного выражения? Мы выбираем кинематограф как площадку для дискуссий, потому что это наш фронт работ, а ещё потому что рождение третьего кинематографа — это самое главное культурное явление современности. По крайней мере, для нас.
Октябрь 1969
Перевод осуществлён по веб-версии текста, опубликованном на сайте cinedocumentalyetnologia.wordpress.com.: Hacia un tercer cine: Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo
19.02.2025
↑