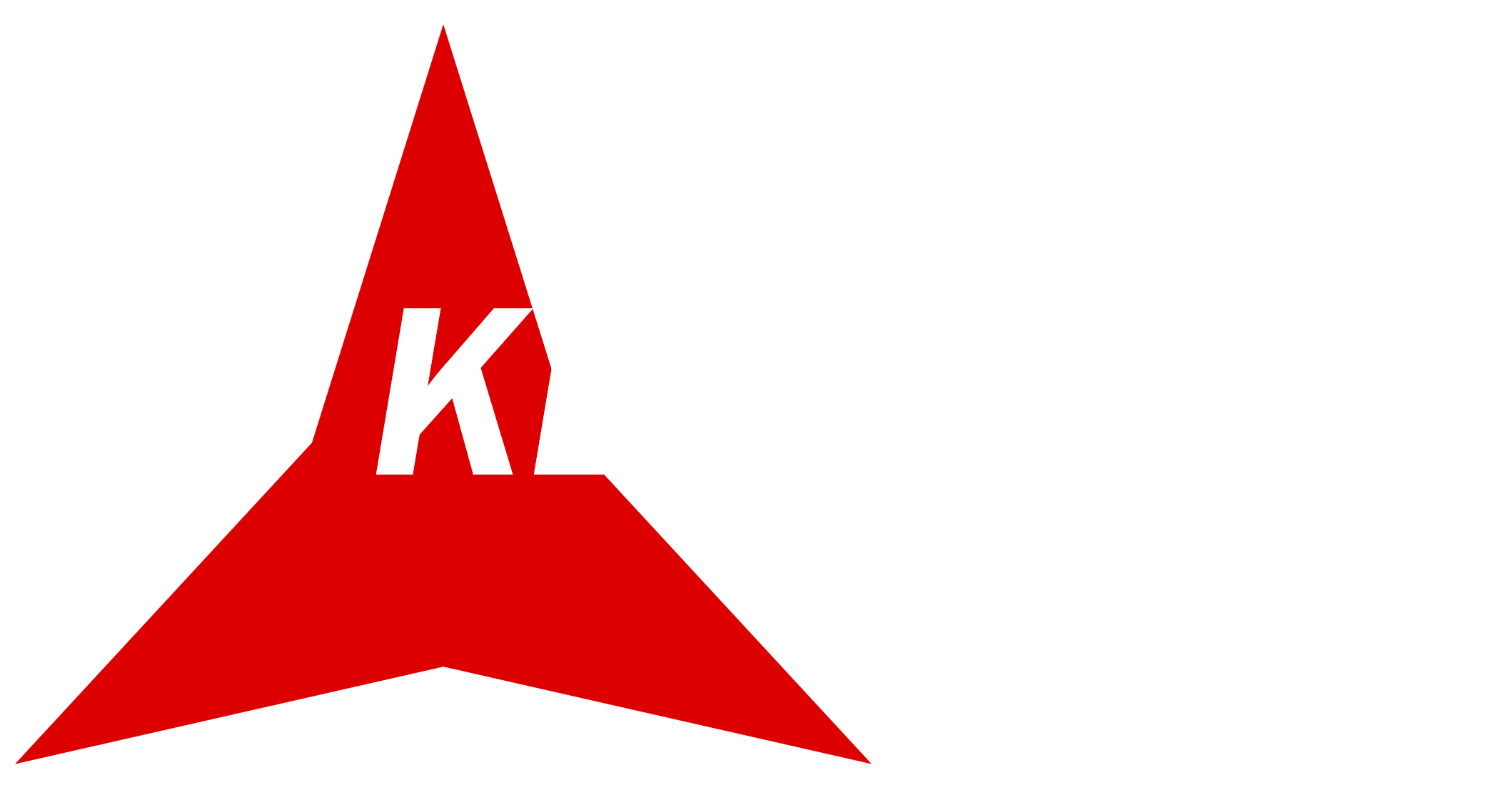От LeftEast: недавно мы наткнулись на очень впечатляющую магистерскую диссертацию Александра Ноговищева под названием «Политическая коммуникация в СССР в начале 1960-х гг.: обсуждение проекта Программы КПСС». Она предлагает рассмотреть Советский Союз того периода (и в целом также) как социалистический проект, а также серьёзно отнестись к его марксизму. При этом, используя канонический исторический материал, Александр приходит к очень свежим выводам, имеющим значение для любого левого, стремящегося переосмыслить советский опыт. Мы решили провести интервью с автором.

Расскажите, пожалуйста, немного о Программе — ее происхождении, содержании и последствиях.
Оглавление
- Расскажите, пожалуйста, немного о Программе — ее происхождении, содержании и последствиях.
- Справедливо ли назвать Вашу работу попыткой характеризовать «социализм с человеческим лицом» на основе реакции населения на один из его основных документов — Программу Коммунистической партии СССР 1961 года?
- Вы пишете, что новые материалы сегодня практически не используются для интерпретации Советского Союза как социалистического проекта. Изменение этой тенденции – один из главных методологических вкладов Вашей работы. Не могли бы Вы объяснить, почему такая тенденция наблюдается в нынешнем политическом контексте?
- Что такое политическая субъективность и почему/как проблема политической субъективности преследует советологию/историографию?
- В центре Вашего исследования — рецепция Программы в расширенной публичной сфере эпохи оттепели. Какова была она? Не могли бы Вы конкретизировать социальные группы, которые участвовали в этой общественной дискуссии?
- Ваша работа опирается на ревизионистскую традицию советской историографии, но в значительной степени расходится с ней. Не могли бы Вы описать основные направления Вашей полемики с существующей историографией?
- Не считаете ли Вы, что фокусируясь на вопросах материальной и культурной повседневности, ревизионистская традиция советской историографии де-политизировала СССР как проект, и таким образом убрав «политическое» из «политической экономии»?
- Какова связь между потребительским коммунизмом и политической субъектностью советских граждан? Особенно интересна Ваша дискуссия про наличие сильного эгалитаристского вектора в обращениях граждан.
История написания проекта Программы КПСС 1961 года насчитывает более сорока лет. В сталинские времена было несколько попыток написать Программу, но ни одна из них не увенчалась успехом. Система успешно работала без Программы, так как все стратегические решения оформлялись резолюциями партии на съездах.
К инициативе вернулись более тщательно после войны, когда возникла впервые необходимость серьёзно переопределить развитие государства. Так, возникли черновики проекта Программы ВКП(б) 1947 года. Они содержали себе множество инноваций якобы «оттепельного» периода: «отмену» диктатуры пролетариата, мирное сосуществование с капиталистическими странами, построение коммунизма за несколько десятков лет и другие.
С 1958 по 1961 годы Программу стали готовить особо тщательно. Это стало вызвано тем, что Хрущёв и его команда искали концептуальные новшества, отличавшие их от сталинизма, не только по риторическим, но и по идеологическим, политическим, экономическим причинам. В 1959 году провозглашается «период строительства коммунизма». В это время начинает составляться план реформ.
Хрущёв к нему подошёл более инклюзивно, но не более демократично. В отличие от Сталина, он привлёк не только партийных работников к разработку проекта документа, но и государственных служащих из Академии наук.
Обсуждение проекта Программы было одновременно и беспрецедентным, и рядовым. Беспрецедентным его делали масштабы: были задействованы многие газеты, общественные организации, в обсуждение явно намеревались вовлечь всё советское население. Рядовым его делало то, что те подходы, которые использовали инициаторы обсуждения, были весьма характерными для «оттепели».
Репрессивная логика сталинизма начала постепенно отступать: теперь несогласных не воспринимали как прямых врагов. Заместо ей они стали восприниматься как чего-то «незнающие». Задачей партийного аппарата было теперь не уничтожить врага, а обучить ученика. Но обе эти логики роднит то, что они были авторитарными в своём роде. Даже допуская обсуждения и предложения от граждан, их роль сводилась до «полезных замечаний». Принятые из них имели сугубо технический характер, в них не было никакой политики. Большая часть политических высказываний либо игнорировалась или из-за «непрограммности» содержания, или перенаправлялась в соответствующие органы, где она пополняла архивы.
Программа была написана в период чрезвычайного человеческого оптимизма: в апреле того же года был запущен впервые человек в космос, социальные блага стали достигать своего беспрецедентного на тот момент развития. Это породило и многие оптимистические ожидания у населения, и скепсис. И оптимизм, и скептицизм получили своё развитие в виде коллективной альтернативной политической «программы» из тех предложений, писем, возражений от граждан, что мы имеем. Так, оптимистично настроенные люди считали, что 20 лет — это слишком долго, и хотели ускорить процесс коммунистического развития. Некоторые из них предлагали развивать опытные проекты и переходить к безденежной экономике.
Скептики полагали, что в те сроки коммунизм не мог быть построен. Некоторые из них предлагали более стабильные, но не менее радикальные меры, такие как социализация загородных домов отдыха (дач), яхт, автомобилей и других дефицитных предметов и предметов, которые можно было бы использовать поочередно.
Несмотря на большое количество альтернативных предложений, никаких политических последствий из их писем не было, если не считать разочарования, наступившего в 1980 году от ненаступившего коммунизма. Почти все высказанные предложения остались лишь в советских архивах и не были учтены, за исключением различных жалоб. Например, правительство отреагировало на возмущение по поводу отсутствия пенсий колхозникам, решение о котором было принято в 1964 году, хотя и не в полном объеме.
Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что политические предложения могут оказаться важными для исследователей Советского Союза, поскольку они покажут, что путь, который привел к распаду СССР, имел альтернативы. Оценка их перспектив сейчас является предметом дискуссий, но я полагаю, что эти альтернативы были значительно более жизнеспособными и перспективными, чем было принято считать ранее.
Есть единичные работы, которые регулярно выходят на этот счёт и показывают, что несогласие было куда сложнее общепринятого понятия диссидентства. Следовательно, и число людей, вовлечённое в это несогласие, было значительно выше, чем было принято считать ранее.

Справедливо ли назвать Вашу работу попыткой характеризовать «социализм с человеческим лицом» на основе реакции населения на один из его основных документов — Программу Коммунистической партии СССР 1961 года?
И да, и нет. Я не очень являюсь сторонником использования термина «социализм с человеческим лицом, потому что он тесно связан с известной дихотомией левых идей. В её основе лежит идея о том, что «старые ортодоксальные нормы» неизбежно должны развиваться исключительно в сторону дерадикализации, эрозии и даже лишения своего коммунистического содержания. Так, якобы можно быть либо радикальным и устаревшим, либо современным, но умеренным. Любой социализм в этой логике рассматривается либо как самомаргинализирующаяся вещь, либо самолиберализирующаяся (не в коммунистическом, а в центристском отношении).
Моё исследование описывает политические реакции советских граждан на обсуждение партийной Программы КПСС 1961 года. Я пытаюсь показать, что среди них были не только лояльные, полностью диссидентские, прагматические или вненаходимые высказывания. Моё исследование касается группы людей, отличной от всех этих групп. Эта группа людей слишком политизированная, чтобы быть вненаходимой. Слишком думающая не только о своём, но и об общем благе, чтобы быть прагматичной. Слишком сомневающаяся, чтобы быть лояльной и слишком лояльная, чтобы быть диссидентской. Эта группа людей была частью советского социалистического дискурса, но не так, как высшие советские чиновники. Она была независимой от официальных властей, а также от диссидентов. Эта группа представляет собой еще одну форму политического выражения в СССР. Однако традиционно она до сих пор не рассматривалась в историографии как самостоятельная проблема.
Сам же дискурс советских граждан, который я рассматриваю, имел не только сходства, но различия с «социализмом с человеческим лицом». Хотя есть определённые программные сходства, концептуально он призывал не сколько к модернизации текущего строя, сколько к скачку вперёд. Мне лично видится, что более корректно называть это чем-то вроде коммунизма, вырывающегося из контекста той советскости, что мы знаем. Под этим я подразумеваю, что за усреднённый статус-кво в СССР следует рассматривать не довоенный, а послевоенный период. Следовательно, и нормой я считаю как раз «человеческое лицо», а точнее попытки его найти, не его отсутствие. Я не стою на позиции деформированного рабочего государства или иного якобы «испорченного» социализма. Наоборот, я считаю, что Советский Союз двигался не к своей деградации, а к своему вызреванию в более демократическом, инклюзивном и стабильном ключе, которое было невозможно ни в годы революции, ни в период сталинизма. Хотя пересборка стала неудачной, я не считаю, что СССР осуществить её вовсе не мог, и это один из главных политических выводов из моего исследования.
Так что если говорить о «социализме с человеческим лицом» как о демократической итерации социализма, то, скорее да, можно провести параллели моего исследования с тем, что представляет этот термин. Однако мне не близок тот контекст, в котором он находится сейчас. Скорее, я бы назвал это принципиально иначе: этап социализма без российского революционного контекста. Как французская либеральная демократия стабилизировалась во второй половине XIX – начале XX века, так и советский социализм, на мой взгляд, вступил в стадию стабилизации (к сожалению, неудачной).
Вы пишете, что новые материалы сегодня практически не используются для интерпретации Советского Союза как социалистического проекта. Изменение этой тенденции – один из главных методологических вкладов Вашей работы. Не могли бы Вы объяснить, почему такая тенденция наблюдается в нынешнем политическом контексте?
За редкими исключениями, сейчас больше популярен тренд на локальные рассмотрения. То, как советские люди одевались, как они лечились, как они получали информацию – всё это важно как отдельные вопросы для исследования, хотя мне и не совсем близко.
Мне также понятен тренд поиска общего между СССР и США, странами ЕЭС. Это вызвано тем, что раньше, когда сам Советский Союз ещё существовал, было очень много исследований идеологии, политики.
Я сам – левый, и пришёл в историю как науку, потому что хочу изменить мир. Но меня не устраивают классические (и неклассические) левые ответы. Я считаю, что опыт СССР, в особенности, послевоенного, незаслуженно выброшен из левой теории, левого рассмотрения. Ортодоксальными и консервативными левыми он считается излишне «ревизионистским», «прогрессивные» же левые находят в нём много «предрассудков» (например, консерватизм, авторитаризм, патриархат и т.д.).
Я считаю, что для пересборки левого дискурса сегодня важно отринуть свой ангажированный взгляд на советское, и взглянуть на него perce. Не только мы как левые должны интерпретировать советское прошлое, но и советское прошлое имеет право на то, чтобы оппонировать нашим политическим концепциям своим существованием и практиками, которые не вписываются ни в ортодоксальные, ни в прогрессивные марксистские концепции.
Я стою в строгой оппозиции к тем, что считает советский социализм статуса социализма только лишь потому, что субъективно он им не нравится. Хотя мне симпатичен объект моего исследоваания, я вижу в СССР и много негативных для себя моментов. Однако я не считаю, что для левых само понятие «социализм» должно свидетельствовать о чём-то хорошем априори. Как для либералов и правых есть множество разных капитализмов, и все они предпочитают не все их вместе, а какой-то конкретный, что, также, я считаю, должно быть и у левых. В противном случае я не вижу смысла для такого понятия, если оно зависит от субъектов и их политических намерений.
Своей задачей я ставлю показать, что исследовательская лакуна не заполнена: нам всё ещё есть, что сказать о советском прошлом как о социалистическом проекте. Нам снова нужно вернуться к этому вопросу, ведь возможности для ответа на него гораздо шире, чем были 60-70 лет назад. Распад СССР ввёл большое количество источников в оборот, а дистанция с советским обществом даёт возможность менее эмоционально подойти к вопросу.
В этом смысле я не принадлежу ни к апологетикам, ни к критикам Советского Союза. Я считаю, что СССР – та исследовательская проблема, что стоит перед левыми, которая может быть только диалектически снята. Её нельзя решить ни взятием на щит, ни отрицанием. Нужен набор принципиально новых концептуальных практик, которые лежат фундаментально за пределами текущих марксистских моделей. Скажу, что я занялся исследованием этой проблематики в рамках другого, более политического интеллектуального проекта. Сейчас я занимаюсь публикацией своей книги о российском радикальном левом движении, его интеллектуальных практиках, кризисе и путях его преодоления. В ней я пытаюсь более подробно ответить на вопрос о возможных основаниях методологического тупика.
Что такое политическая субъективность и почему/как проблема политической субъективности преследует советологию/историографию?
Во многом, это условный конструкт, взятый мной для того, чтобы отделить расширенное политическое, которое – «всё», от старого понятия политики как состязания идей, программ, проектов и их публичного их отстаивания.
Первоначально рефлексия на тему политической субъектности и субъективности возникла ещё в тоталитарной школе как способ понять, какое место занимают граждане в тоталитарной системе. Ревизионисты же расширили это понятие, сделав акцент на неочевидных практиках советской системы, где есть место не только однопартийной политике и безальтернативным выборам, но и жалобам, патрон-клиентским отношениям, использованию официальных риторик в своих целях, etcetera. Алексей Юрчак писал о тех пространствах, где её вовсе не было в том виде, в котором многие искали до него.
Несмотря на очевидные заслуги, все подобные подходы привели к тому, что советское стало достаточно редко обсуждаться как политическое в узком смысле, а, следовательно, и как социалистическое. Я же осознанно возвращаюсь к узкому понятию о политическом как о том, что требует осознанности себя как политического лица. Для меня принципиально важно отделить людей, которые, например, жалуются «во имя коммунизма» на то, что у него протекла крыша, от людей, которые предлагают ввести альтернативные выборы, пишут открытые письма с указанием на общественные проблемы, говорят не только от своего лица, но и берут смелость высказываться от имени целого коллектива и группы интересов.
Моё исследование – это разговор про то, что политические силы есть и при социализме, и что это – потенциально нормально для системы. И эти политические силы могут быть не только частью системы или революционерами по её отношению; есть ещё и то, что мы бы назвали в более открытой системе умеренной оппозицией.
Для левых же признание подобных явлений позволит разрушить дихотомию капиталистической демократии и социалистического авторитаризма, так как начало самой рефлексии на этот счёт способно дать значительно больше, чем абстрактные философствования о народном суверенитете.
В центре Вашего исследования — рецепция Программы в расширенной публичной сфере эпохи оттепели. Какова была она? Не могли бы Вы конкретизировать социальные группы, которые участвовали в этой общественной дискуссии?
В своём исследовании я обозначил пять групп высказываний, из которых я выбрал для работы только одну. Меня интересовала та группа людей, которую даже при максимальном скепсисе к политизированности советских граждан, нельзя исключить из списка политически активных людей. Они брали на себя смелость высказываться не только от своего лица, но и от лица коллективов, они предлагали новшества, которые требовали не учёта их мнения и финансового положения.
Они предлагали новации, требующие просто не учитывать их мнение о расстановке запятых, употреблении слов в тексте или изменении материального положения отдельных лиц. Так, если предложения по решению конкретных материальных проблем одного человека или группы можно свести к просто прагматическим практикам, то предложения, затрагивающие советское общество в целом, не могут быть сведены к таким практикам.
Например, предложения о введении альтернативных выборов нельзя считать «прагматическими». Эти предложения были не столько ориентированы на местные проблемы, сколько требовали реформирования всей советской системы или ее отдельных аспектов.
Если брать эту общность людей в социальном отношении, то она была самой разнообразной: в неё входили рабочие, колхозники, старые члены партии и новые партаппаратчики. На последнем я бы хотел сделать акцент отдельно: очень часто компартия в СССР рассматривается как некий аппарат, оторванный от населения и противопоставляющийся ему.
Однако партия была способом и политической, и карьерной реализации в Советском Союзе. Поэтому стоит сказать, что не сколько дискурс партии сколько разделяло население. Наоборот, зачастую дискурс населения разделяли некоторые партийные чины вплоть до республиканского аппарата. В какой-то степени это коррелирует с «партийно-демократическим движением», которое пытался собрать Рой Медведев для того, чтобы создать субъект политических перемен по трансформации социализма в более демократическую и социальную сторону.
Далеко не все предложения, представленные политически, имели левую политическую окраску. Но условно «правые» высказывания имели достаточно маргинальный характер. Я не берусь сказать, насколько в СССР были распространены правые настроения, так как не каждый правый пошлёт письмо с обсуждением социалистической программы. Однако само наличие неоднократных социалистических, и при этом, независимых и не однозначно диссидентских высказываний, говорит о том, что в Советском Союзе могла быть потенциально сформирована социалистическая оппозиция, умеренная по отношению к советской системе, но также радикальная по отношению к капитализму.

Ваша работа опирается на ревизионистскую традицию советской историографии, но в значительной степени расходится с ней. Не могли бы Вы описать основные направления Вашей полемики с существующей историографией?
Мы имеем достаточно серьёзное фундаментальное разногласие. Они ищут общее в Советском Союзе с другими модерностями. Я же пытаюсь заново поставить вопрос о том, что отличает СССР. Для меня как для левого исследователя важно отделить социалистическое от контекстуального. Я стою на позиции, что СССР был ранним социализмом, где были и потенциально имманентные для любого социализма черты. Моя задача – постараться их определить с учётом богатой работы по контекстуализированию советского опыта, что уже сделали ревизионисты. Я полемизирую больше не сколько с ними как с отдельными ревизионистами, а с общим историографическим положением.
Более непосредственно я полемизирую с Алексеем Юрчаком. Я показываю, что тот перформативный сдвиг, про который он пишет, если и начался, то явно не в тех границах, что он описывает. Я стою на позиции, что смерть Сталина хотя и катализировала некоторые процессы в советском обществе, она не была решающей. Даже при Сталине уже шли попытки демократизации. Да, они были не так заметны как в «оттепель», сохранялась инерция системы и авторитарный характер управления, но такие случаи можно встретить как раньше, так и позже, как в брежневский, так и в сталинский периоды! Для меня важен не столько конкретный характер предлагаемых мер, сколько сама динамика. Хотя я и беру отдельный кейс, ограниченный достаточно узким периодом, концептуально я пытаюсь посмотреть на СССР шире одного периода, пытаясь дать ему интерпретацию на большом масштабе.
Не считаете ли Вы, что фокусируясь на вопросах материальной и культурной повседневности, ревизионистская традиция советской историографии де-политизировала СССР как проект, и таким образом убрав «политическое» из «политической экономии»?
Если подразумевать то политическое в более узких критериях, что я беру, то возникает вопрос: кого считать ревизионистом. Не так давно вышла книга Алексея Голубева «Вещная жизнь: материальность позднего социализма». Я полагаю, что она затрагивает и политические вещи в более узком контексте. Но тот контекст, который он вводит благодаря изучению материального, больше политически освещает советскую систему, нежели советских граждан. Несмотря на это, исследование Голубева мне очень нравится, и я его считаю прекрасным исключением из описательных практик многих моих коллег.
Какова связь между потребительским коммунизмом и политической субъектностью советских граждан? Особенно интересна Ваша дискуссия про наличие сильного эгалитаристского вектора в обращениях граждан.
Александром Фокиным, моим предшественником в этой теме, выделяются «аскетический» и «потребительский» коммунизм. Под ними подразумеваются два концептуальных подхода к коммунизму. Если аскетический – про то, чтобы «затянуть пояса», то потребительский – про то, чтобы получить экономические блага здесь и сейчас. Я не сторонник этой концепции, потому что весьма сложно разделить рецепцию коммунизма и использование его для получения личной выгоды. Политика и прагматика здесь находятся в настолько тесной связке, что едва ли возможно их различить.
В какой-то мере, я иду одновременно и по самому лёгкому, и по самому сложному пути. Я полностью принимаю во внимание весь возможный скепсис насчёт политичности подобных высказываний. Моя задача – показать, что даже используя все интеллектуальные возможности для отрицания политического характера подобных высказываний, есть группа суждений, которая не вписывается в этот скепсис даже в крайней форме. А, следовательно, говорить о такой группе людей – вполне правомерно. Моя задача – не сколько определить границы, сколько показать, что даже при самом пессимистическом сценарии изучаемый объект исследования существует. Следовательно, он заслуживает быть отдельной проблемой.
Основываясь на этом, я пытаюсь анализировать то, что говорят эти люди в максимально суженных скепсисом рамках. Большой эгалитаристский характер этот высказываний заметен даже в них, что говорит о том, что независимый социалистический дискурс в СССР – проблема куда более широкая, чем диссидентские организации или отдельные интеллектуалы.
28.06.2024
↑