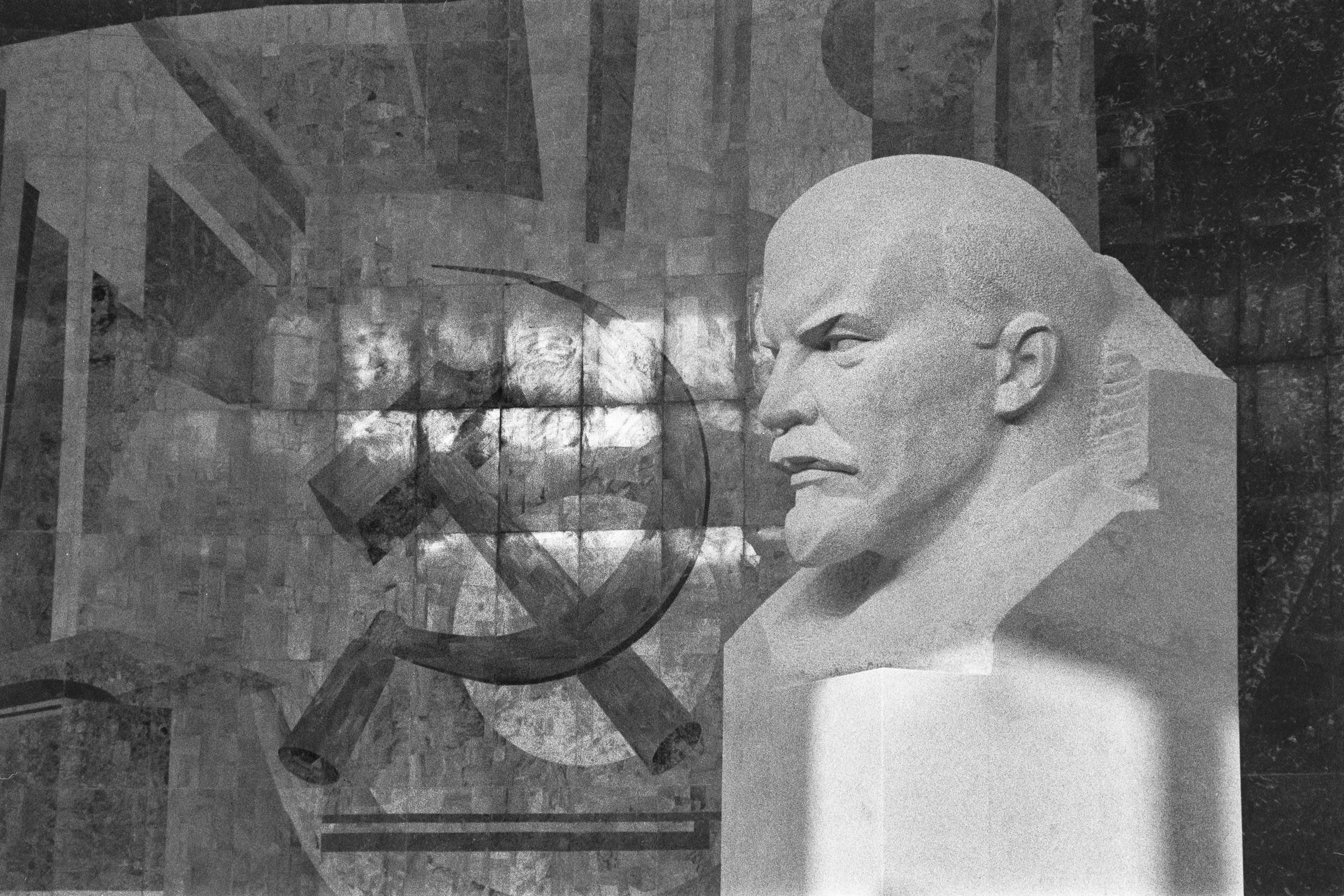Оригинал статьи был первоначально опубликован на сайте Ревкульт
Перевод: Антон Рубин, Роман Голобиани
Последние десятилетия Глобальный Север охвачен пессимизмом в отношении радикальных перемен. Подобные настроения вполне понятны, если учесть, что предшествующие попытки строительства социализма обернулись полным провалом, и антикапиталистическое сопротивление во всём мире пошло на спад в 1980-х годах. В 1970-х мы, пожалуй, были слишком оптимистичны. Но на то были свои основания: миллионы людей по всему миру жаждали революции; весь Третий мир сотрясали восстания на протяжении пятидесяти лет; вьетнамский народ взял верх над военной машиной США; в 1968 революционная волна докатилась и до Первого мира. Субъективный фактор был силён, но мы недооценили гибкость капитализма, которому удалось повернуть эту бурю вспять и перейти в разгромное экономическое, политическое и военное контрнаступление. Капитал ещё не был загнан в безвыходное положение.
Неолиберализм возвестил о наступлении золотого века капитализма. Казалось, мы пришли к «концу истории». Но это было далеко не так. Сегодня мы наблюдаем глубокий кризис системы. Уже сложились объективные условия для перемен, и перемены неизбежны – вопрос лишь в том, какими они будут. Сейчас кризис на руку в первую очередь правым популистам: национализм, расизм, религиозный фундаментализм и фашизм сегодня на подъёме. Проблема прогрессивных сил кроется в субъективном факторе. На пути надежды стоит пессимизм: «Борьба бессмысленна, капитализм непобедим, он способен пережить любой кризис, все социалистические эксперименты окончились провалом, никаких альтернатив нет» и так далее. В результате всё что мы имеем – это циничная, загнанная в оборонительную позицию, ограниченная и беззубая критика капитализма. И поэтому я выбираю оптимизм.
Под оптимизмом я подразумеваю отнюдь не наивность. Я не верю в исторический фатализм, в то, что капитализму суждено погибнуть и уступить место социализму. Я не верю в то, что необходимо просто дождаться момента, когда «массы наконец проснутся». Я говорю о реалистичном оптимизме, который берёт в расчёт экономический, политический, экологический кризис и нестабильность глобального капитализма, а также сотни миллионов новых пролетариев Юга, которым «нечего терять, кроме своих цепей», и которые с каждым днём все больше осознают свою силу.
Международные цепочки производства породили новые экономические условия и новые возможности для сопротивления, как на Глобальном Юге, так и на Севере. Антиимпериализму больше не нужно сосредотачиваться на национально-освободительной борьбе, как это было в 1970-х. Сегодня в центре его внимания должно быть экономическое освобождение от глобального неолиберализма; на первое место должна выйти антикапиталистическая повестка. Народы Глобального Юга жаждут сбросить с себя неолиберальное иго, порвав с капиталистической мир- системой и установив горизонтальное сотрудничество (или же двигаться в сторону регулируемого капитализма, как это делает Китай). Усиливающаяся борьба рабочих проложит путь к обширному политическому противостоянию. Антиимпериализм будущего будет иметь ярко выраженную классовую окраску.
Революционеры Глобального Севера не должны оставаться безучастными наблюдателями; им недостаточно лишь дождаться, когда рабочие Юга сделают всё за них. Экономические и политические условия меняются и на Севере, и люди испытывают кризис на себе, как мы уже убедились на примерах Греции и Испании. Само по себе это ещё не гарантирует никаких изменений к лучшему, но открывает широкое окно возможностей.
Структурные проблемы капитализма никуда не уйдут. Нас и дальше ждут спекулятивные пузыри и игры с рискованными активами на финансовых рынках, идеологические и культурные конфликты и нарастающее противоборство за такие ресурсы, как питьевая вода, чистый воздух, продовольствие, энергия. Население стран БРИКС будет добиваться более высокого уровня жизни, что поставит под угрозу норму прибыли и накопление глобального капитала. Экономическая неустойчивость приведёт к требованиям протекционистских мер, что повлечёт за собой череду политических конфликтов и кризисов. Изменение климата, экологические катастрофы и пандемии станут обыденностью. Инвестиции и потребление пойдут на спад. В общем и целом, будущее государства, капитала и обычных людей весьма туманно. Мы склонны верить в то, что ничего не изменится и наша жизнь будет такой же, как и всегда, но это не более чем иллюзия. Не нужно обманывать себя, – это лишь усугубляет ситуацию. Мы вступаем в эпоху исторических перемен. Из застенков своей тюремной камеры Антонио Грамши предсказал восход итальянского фашизма: «Кризис заключается именно в том, что старое уже умирает, а новое ещё не может родиться; в этом междуцарствии возникает множество разнообразнейших патологий». Эти слова справедливы и для наших дней.
Триединая стратегия
Оглавление
Закат левых национально-освободительных движений и крах Советского Союза ещё не поставили крест на социализме, но показали, что путь к нему весьма непрост. Впрочем, то же можно сказать и о капитализме: впервые он зародился в итальянских городах-государствах в XV веке, но по- настоящему установиться смог лишь спустя 400 лет в Англии. Вместе с тем стоит отметить: нет никакой гарантии, что на смену капитализму неизбежно придёт социализм – к примеру, что, если правые силы Глобального Севера развяжут войну против народных масс Юга? Но я не буду останавливаться на таких мрачных сценариях, и вместо этого сосредоточусь на условиях позитивного исхода капиталистического кризиса.
Как я уже писал выше, сегодня проблема стоит не столько в объективных условиях, сколько в субъективных. Появятся ли на свет стратегии и формы организации, которые нам так нужны сегодня? Здесь необходимо рассмотреть три вопроса: как будет выглядеть экономическая и политическая революция в глобализованном мире? Как преодолеть раскол всемирного рабочего класса? И как реабилитировать социалистическую идею в глазах общественности?
Глобализация и революция
Со времён Карла Маркса и до 1920-х социалисты осознавали, что их единственной надеждой была мировая революция или же по крайней мере революция в великих державах. Ленин придерживался этой позиции вплоть до самой смерти в 1923 году; он был убеждён, что Русская революция выживет лишь в том случае, если её примеру последует пролетариат передовых капиталистических стран. Но революции на Западе так и не случилось: национализм оказался куда привлекательнее. По всей Европе социал-демократические партии связали интересы рабочего класса с интересами нации. Со временем националистические настроения подняли голову и в Советском Союзе. Вместе с тем национализм сыграл важную роль в освободительной борьбе Третьего мира: угнетённые народы противопоставили прогрессивный национализм реакционному империалистическому.
В конечном счёте история подтвердила правоту Ленина. Трудности строительства социализма в капиталистическом окружении были немыслимыми, – и потому мы должны вернуться к глобальным устремлениям социализма, единственным по-настоящему реалистичным. Разумеется, мы не можем закрывать глаза на тот факт, что сегодня политическую реальность определяют национальные государства. Наши политические действия должны учитывать национальную специфику, и всё же долгосрочная стратегия должна охватывать весь мир.
Отношения между глобализацией, национальным государством и революцией – далеко не только географического характера. Они касаются также и властных структур, и потому сегодня от нас требуется по-новому осмыслить понятие революции. Наши исследования власти слишком сосредоточены на государстве. Многие из наших единомышленников убеждены, что захват госаппарата немедленно прокладывает путь к радикальным преобразованиям, несмотря на то что история уже не раз опровергла это заблуждение. На то есть две причины: во-первых, власть государства ограничена мировым экономическим порядком; во-вторых, многие отношения власти воспроизводятся в обществе и без давления сверху государственных институтов. Советское правительство стояло во главе страны на протяжении 75 лет, однако общество коренным образом не изменилось. Это касалось в том числе и трудовых отношений: работа на советском предприятии ничем принципиально не отличалась от работы на предприятии капиталистическом. Мало что разнило семьи, школы, города и пр. по обе стороны железного занавеса.
Государственная власть – это инструмент подавления. Он хорош для того, чтобы управлять людьми, но с его помощью невозможно воспитать нового человека. Поскольку госаппарат – главная преграда на пути революции, для неё захват власти является делом жизненно необходимым, но всё же далеко не достаточным. Требования революции куда сложнее, и исполнить их централизованной власти не под силу. Необходима революция в самих отношениях власти, которые укоренились в нашей повседневной жизни, в наших традициях, в нашем мировоззрении и т.д. Революционная борьба – это борьба за понимание того, что является истиной и ложью, добром и злом. Это борьба за сердца людей. Борьба ведётся повсюду и принимает самые разные формы. Мы должны признать это, если хотим быть революционерами.
Разделённый рабочий класс
Благодаря капитализму наёмный труд распространился по всему миру и всё глубже проникает в сферу общественных отношений. Для большинства из нас наемный труд играет главную роль в жизни, поэтому он является важнейшим полем политической борьбы. Но мы живем в разделённом мире с разделённым рабочим классом. Локальная борьба без глобальной перспективы служит лишь узким личным интересам – профсоюзное движение тому пример: почти повсеместно его ответом на глобализацию стали попытки выторговать наилучшие условия для рабочих своей страны. Большинство из профсоюзов полностью отказалось от антикапиталистической риторики.
Но насколько глобальное разделение труда раскололо рабочих Севера и Юга, настолько же тесно их связывают глобальные цепочки производства. И те, и другие часто трудятся на одни и те же компании или конгломераты, что могло бы стать основой международного сопротивления. Перед революционным движением открылись бы большие перспективы, будь у профсоюзов единая, всемирная стратегия, как у финансового капитала и ТНК. Что, если бы МКП [Международная конфедерация профсоюзов. — Прим. пер.] бросила вызов ВТО? Это, конечно, потребовало бы от профсоюзов мужества выйти за пределы узких национальных интересов и выступить на арене мировой политики. Здесь борьба разворачивалась бы уже не просто за повышение заработной платы, но также за рабочий контроль и участие профсоюзов в организации труда, в обсуждении экологических вопросов, в решениях о разработке тех или иных технологий и т.п. В идеале профсоюзы объединили бы усилия с общественными движениями, способными противостоять неолиберальной гегемонии.
Если мы хотим снизить неравенство во всём мире, необходимо урегулировать в нём уровень заработной платы. Сегодня международное профсоюзное движение требует установления минимального уровня оплаты труда на Глобальном Юге. Это очень важный шаг, но на нём нельзя останавливаться. Следом должно быть выдвинуто требование о равном во всём мире уровне заработной платы. Отстоять его под силу лишь международному профсоюзному движению, сплочённому глобальной солидарностью. Это совершенно прозрачное требование равенства и справедливости. Неэквивалентный обмен – результат неравной оплаты равного количества труда. Несправедливо платить людям меньше из-за того, что они живут в другой стране. Аналогичное можно сказать и в отношении пола: женщина не должна получать меньше мужчины за ту же самую работу просто из-за того, что она женщина.
Требование всемирно равной оплаты труда может показаться утопичным. Разве это не приведёт к краху мировой экономической системы? Разве из-за этого не возрастёт потребление, и, как следствие, не наступит экологическая катастрофа? Но по большому счёту это вопрос политической воли. Рыночные силы – не законы природы, под которые мы вынуждены подстраиваться любой ценой. Они сотворены человеком, и точно так же могут быть им изменены – к примеру, путём установления демократического контроля над производством и распределением богатств. Даже в рамках существующего глобального капитализма возможно снизить неравенство в уровне оплаты труда, если бы политики ставили перед собой такую задачу. Нам также вполне под силу изменить свой образ жизни и структуру потребления. Качество жизни и устойчивое развитие не исключают друг друга.
Борьба за равный уровень заработной платы и лучшие условия работы для всех жителей планеты не отменяют борьбы коммунистической за преодоление наёмного труда и за экономику, основанную на принципе «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Но чтобы наше коммунистическое видение стало привлекательным, мы должны его конкретизировать. Помимо критики неолиберального наёмного труда нам также нужны предложения новых способов производить всё необходимое для жизни. Это приводит нас к третьему принципиальному вопросу, который стоит перед будущей социалистической политикой: репутация социализма.
Социалистический «бренд»
В 1970-х миллионы людей были готовы отдать жизнь в борьбе за социализм. Сегодня немногие осмеливаются о нём в принципе говорить. Тот довод, что нам довелось увидеть лишь малую часть его потенциала, для большинства звучит совершенно неубедительно. С наступлением неолиберализма социалистическая альтернатива была отброшена на периферию политики. Если мы хотим её возвращения на сцену, нам необходимо сформулировать новое видение социалистического общества.
Для Маркса вопросы демократии не ограничивались одним лишь политическим измерением, как то: есть ли свободные выборы? Свобода печати? Уважаются ли права человека? В его понимании свобода должна касаться всех общественных отношений, начиная от семейной жизни и заканчивания организацией производства. Мы, жители Глобального Севера, тешим себя мыслью, будто живём при демократическом порядке, однако главные факторы нашей жизни, как, например, экономика, вовсе не подчинены демократическому контролю: капиталы направляются туда, где можно извлечь максимальную частную прибыль, на рабочих местах царит авторитаризм, результаты труда распределяются неравным образом. Право на частную собственность на средства производства противоречит фундаментальным принципам демократии.
В «реальном социализме» под демократическим контролем над экономикой подразумевалось обобществление средств производства; в действительности же они оказывались в руках государства. Рабочие едва ли чувствовали себя хозяевами собственных предприятий. Вопреки официальной риторике, государство не принадлежало рабочим. «Реальному социализму» так и не удалось создать полноценный социалистический способ производства; вместо этого он избрал путь конкуренции с капитализмом. В мире, где господствуют капиталистические отношения, социализм неспособен реализовать весь свой потенциал.
Если социализм стремится удовлетворить общественные потребности, то кому, как не обществу, их определять? Нам нужны институты и правовые нормы, которые позволят рабочим участвовать в принятии тех решений по тем вопросам, которые непосредственно их касаются. Каждый хотел бы иметь контроль над собственной жизнью, и вместе с тем совсем немногие проявляют интерес к политике – это говорит о многом. Настоящая демократия должна предоставлять людям право решать, каким будет их рабочее место и среда обитания. Повседневная жизнь должна стать жизнью политической. На смену представительной демократии должна прийти демократия прямая, вовлекающая широкие массы в процессы управления. Она откроет нам, насколько зависимы друг от друга каждый отдельный индивид и общество в целом, а также научит нас формулировать общие цели и искать компромиссы. Какую именно форму она примет, зависит от местных особенностей; наглядным примером для нас могут послужить сапатисты. Вместе с тем, если роль играют только местные условия, то политика может с лёгкостью обратиться реакционной. Локальный уровень всегда должен быть связан с глобальным.
Отдельные экономические решения, к примеру, затрагивающие инвестиционную политику или общее отношение между производством и потреблением, должны централизованно приниматься избранным собранием. Будет ли оно местным, региональным, национальным или всемирным, зависит от значимости рассматриваемого вопроса. Главное – учитывать потребности и интересы тех, кого тот затрагивает больше всего; это неотъемлемая часть социалистического видения. Если мы хотим восстановить имя социализма и вновь превратить его в популярный «бренд», нам нужны конкретные и реалистичные предложения, как организовать социалистическое общество. Нам необходимо перейти с идеологического уровня на практический.
Перспектива: кратко-, средне-, долгосрочная. Этот раздел вдохновлен И. Валлерстайном. См. Remembering Andre Gunder Frank While Thinking About the Future. Monthly Review , vol. 60, no. 2 (June 2008), pp. 50–61.
Как нам выработать свою политику и стратегию движения к социализму? Я считаю необходимым очертить три временных периода: краткосрочный (1-5 лет), среднесрочный (5-20 лет) и долгосрочный (20-50 лет).
В рамках краткосрочного периода мы должны сосредоточиться на существующих правительствах, партиях и общественных движениях. Мы должны пристально рассмотреть собственный образ жизни. Работа, шоппинг, потребление – краткосрочная перспектива проносится у нас перед глазами. Мы решаем, за кого голосовать на следующих выборах (и голосовать ли вообще). Мы пытаемся понять, каковы сегодня главные политические вопросы, и что мы хотели бы обсудить со своими друзьями и коллегами. Мы думаем о том, участвовать ли в конкретной демонстрации или забастовке. Стоит ли присоединяться к той или иной политической организации? Или же продолжить профессиональную карьеру? В целом, краткосрочная политика будет определяться требованиями пролетариата Глобального Юга перераспределения прибылей в их пользу, борьбой рабочих Севера за сохранение государства всеобщего благоденствия и стремлением капитала удержать свою власть над миром.
Среднесрочный период стратегически представляет наибольший интерес, поскольку именно здесь активисты могут внести свой решающий вклад, если им удастся найти наиболее эффективную форму организации, а также выработать правильные идеи движения к будущему. К сожалению, именно этот период постоянно игнорируется левыми. То и дело вспыхивают горячие дискуссии как о краткосрочном периоде («какие лозунги мы будем использовать на завтрашнем протесте?»), так и о долгосрочном периоде («как выглядит социалистическое общество?»), но стратегическое представление о политической борьбе предано забвению. Между тем именно от него зависит, что нас ждёт в будущем – социализм или варварство.
Что касается долгосрочного периода, то здесь я вижу два варианта развития событий. Первый – положительный исход капиталистического кризиса и повсеместное установление равенства и демократии; второй – отрицательный, в котором расколотый мир охвачен ожесточёнными конфликтами между враждующими нациями, культурами и религиями, а в авторитарных государствах царит беспощадная эксплуатация. Какой из этих вариантов претворится в жизнь, зависит от нашего видения и курса.
Краткосрочная перспектива
В краткосрочной перспективе политическая деятельность носит оборонительный характер. Мы не допускаем ухудшения ситуации и защищаем то, что имеем. Наша политика становится компромиссной, и мы часто вынуждены выбирать меньшее из двух (и более) зол. Здесь и сейчас люди чётко представляют, чего хотят и в чём нуждаются. Обещания на будущее мало чего значат, если нынешние потребности остаются неудовлетворёнными.
Однако такая политика неспособна изменить систему. Особенно актуально это для Глобального Севера. На Юге борьба за улучшение условий жизни может быть связана с требованиями радикальных перемен в долгосрочной перспективе. На Севере краткосрочные интересы невозможно согласовать с радикальной политикой на Юге – и даже с самыми жизнеспособными среднесрочными стратегиями самого Глобального Севера. Его краткосрочным интересам может противоречить, к примеру, даже создание международного профсоюзного движения.
Если мы сосредоточимся только на краткосрочной перспективе, нам трудно будет выработать правильное понимание кризиса капитализма. В последнее время мы стали свидетелями успехов на выборах новых левопопулистских партий, таких, как греческая Сириза или испанская Подемос. В краткосрочной перспективе подобная практика может решить отдельные проблемы, которые стоят перед жителями этих стран, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе она не сыграет большой роли. Попытки вернуть государство всеобщего благоденствия обречены на провал; мы больше не живем в 1970-х. Кроме того, ни одна из этих партий не проявляет никакого интереса к борьбе на Глобальном Юге. Среди их электората есть люди с радикальными взглядами, но в основном это те, кто попросту устал от традиционных партий. Левопопулистские партии с большим трудом выполняют свои обещания, когда оказываются у власти. При попытке давления на капитал рынок отреагирует рецессией, и левые популисты будут вынуждены пойти на уступки, что вызовет раздражение как у радикальных, так и умеренных сторонников.
Власть глобального капитала серьёзно ограничивает возможности левого популизма. Коренные преобразования возможны только при условии того, что краткосрочные перспективы неразрывно связаны со среднесрочными и долгосрочными. Наша цель не в том, чтобы урегулировать кризис капитализма в Греции, Испании или США, не в том, чтобы вернуться во времена welfare state. Цель – покончить с капитализмом.
Многие левые, по всей видимости, забыли, что кризис (экономический и политический) открывает революционные возможности. Однако нам недостаточно лишь пассивно ожидать его наступления – мы должны готовиться к нему. Мы должны найти разрешение кризиса в принципиально новом способе производства. Это не просто единственное революционное решение – это единственно возможное решение, поскольку только так можно положить конец кризису капитализма. Реформы же способны лишь продлевать его. Выиграла ли Греция от переговоров с Евросоюзом? Радикальные перемены, в идеале основанные на сотрудничестве с левыми силами на Балканах, в Турции и по всему Средиземноморью, безусловно, оказались бы куда более продуктивными.
В ближайшие годы нас нередко будет посещать чувство, что капитализм преодолел кризис – но эти иллюзии будут недолговечными. Мы прошли точку невозврата. Историческое время капитализма подходит к концу.
Среднесрочная перспектива
Среднесрочная политика состоит в разработке стратегий, практик и форм организаций, направленных на выход из структурного кризиса капитализма в прогрессивном направлении. Для этого нам необходимо не только понять наиболее важные противоречия капитализма, но и достичь максимальной эффективности нашей политической деятельности. Здесь нам понадобятся знания, опыт, исследования, обсуждение среди активистов, идеи, понятные массам, низовые организации и широкие объединения. Мы не можем полагаться на иерархические структуры вроде государства. Нам нужны достаточно сильные и сплочённые объединения, способные действовать самостоятельно, но вместе с тем готовые при необходимости сотрудничать друг с другом. Краткосрочная политика основана на компромиссе, среднесрочная – нет. Её главной целью является не решение сиюминутных проблем, а создание условий для возможности долгосрочных радикальных изменений. Но это не делает среднесрочную политику менее реалистичной. Ее реализм состоит не в прагматизме, а в построении нового мира.
Радикальным организациям нелегко обрести широкую поддержку в странах Глобального Севера. Многие люди обязаны своим привилегированным положением существующей системе и потому не желали бы видеть её крах. Однако борьба «в тылу» имеет стратегическое значение для антиимпериалистической борьбы. По мере роста правого популизма мы можем оказаться в ситуации, когда конфликты между империалистическими державами вновь займут главенствующее значение в мировой политике. Антиимпериалисты на Севере будут в меньшинстве, но их роль не стоит недооценивать. Как показывает история, представители рабочей аристократии и среднего класса вполне готовы пойти на «классовое самоубийство», несмотря на все противоречия с собственными объективными интересами: так, борьба во Вьетнаме, Палестине, Южной Африке и Чили обрела решительную поддержку со стороны Первого мира. Однако мы всё же не должны питать иллюзий, что просвещение способно изменить мировоззрение рабочей аристократии в целом.
Ближайшие десятилетия будут отмечены экономической нестабильностью и военными конфликтами. И если хотя бы 5-10 процентов от населения Глобального Севера будут в конечном счёте вовлечены в радикальное преобразование мировой системы, это будет иметь колоссальное значение для борьбы на Юге. Разорвать цепи империализма станет значительно легче. Впрочем, общественность Глобального Севера расценит это как предательство интересов своего народа или даже своего класса. Государства уже трактуют международную солидарность с социалистическими движениями как поддержку так называемых «террористов».
Политические организации, в которых я состоял в 1970-х и 80-х годах, уделяли внимание вопросам, не связанным напрямую с революцией. Мы работали с пролетариатом Первого мира, но с целью не столько его мобилизации, сколько продвижения в его среде тех идей, которые мы считали важными, а именно: солидарность с антиимпериалистическими движениями Третьего мира. Глобальная перспектива по-прежнему имеет важное значение. Глобальный характер капиталистической системы требует от нас понимания классовой структуры и экономического развития во всём мире, чтобы наша политическая работа была эффективной. Мы должны определиться с тем, какие движения и организации способны бросить вызов капитализму и каким именно образом.
Борьба нового пролетариата на Глобальном Юге выражается в создании рабочих союзов, общественных движений, политических партий и т. п. Существуют также прогрессивные режимы, поддерживающие эти начинания; материальная помощь всегда необходима, но не менее важна и политическая. Китай в этом плане представляет особый интерес, и сотрудничество с китайскими активистами требует понимания конкретных условий их борьбы. Журнал Chuang, отслеживающий и анализирующий антикапиталистическое сопротивление в Китае, пишет следующее:
«К примеру, когда группа рабочих устраивает забастовку в Китае, лишь немногие европейцы узнают о ней прежде, чем она завершится, но даже у них нет реальной возможности материально поддержать бастующих, не подвергая опасности их организации. […] Транснациональный характер компаний, вовлеченных в такое противостояние, указывает на возможность интернациональной классовой борьбы, которая могла бы оказывать давление на такие компании. […] Можно вспомнить бойкотирование продукции в поддержку китайских забастовок, вроде той, что произошла в 2014 году на обувных заводах Yue Yuen. […] Эти протесты по крайней мере взяли борьбу китайских рабочих в качестве отправной точки и попытались вовлечь в неё пролетариат других стран, но реальные действия ограничились (чаще малоэффективным) бойкотом торговых точек, и не дело ушло дальше символических акций. Подобные действия имели бы более весомые последствия, если бы распространились на узкие места в глобальной цепочке поставок – от производства до розничной торговли. Для этого потребовалось бы наладить отсутствующую сегодня связь между работниками сферы логистики, хотя, например, уже сегодня мы видим многообещающие тенденции в среде складских рабочих в Италии…
Основными ограничениями, вероятно, являются недостаточная осведомлённость и отсутствие конкретных связей между работниками разных стран – и даже между рабочими одних и тех же компаний в одной и той же стране. Китай находится в авангарде внедрения новых средств безопасности (технических и политических), направленных на предотвращение такой интернациональной пролетарской солидарности, которой способствует интеграция самого Китая в мировой рынок. В то же время эта интеграция не может функционировать, не соединяя пролетариев разных стран тем или иным образом, и китайские работники отлично освоили возможности Интернета; группы активистов собирают и распространяют информацию о рабочих движениях в других странах, используя свои международные связи для поддержки внутренней борьбы…
… Для пролетариев других стран мы хотели бы подчеркнуть, что в XXI веке все в той или иной степени связаны с Китаем, особенно в том, что касается перспектив коммунистической революции. Ввиду ведущей роли Китая в мировой экономике, не говоря уже о самой численности его населения, участие китайских рабочих так или иначе определит исход этой борьбы. Таким образом, если мы хотим внести свой вклад в дело свержения капитализма, мы должны установить прямые контакты с китайскими рабочими, разобраться в истории и нынешнем устройстве Китая, порвав с мифами, которые распространяют как наши враги, так и наши единомышленники» Chuang. Overcoming mythologies: An interview with the Chuang Project. February 15, 2016.
Радикальное антикапиталистическое сопротивление в таких странах, как Китай, Индия, Южная Африка и Бразилия, обладает гораздо большим революционным потенциалом, чем национальное освобождение сорок лет назад. Эти страны больше не находятся на периферии мировой экономики. Глобальный Юг производит невероятное количество стоимости, от потребления которой зависит Глобальный Север. Влияние грядущих революционных движений Глобального Юга окажется повсеместным. Станут возможными скоординированные действия между работниками Юга и Севера: например, когда первые протестуют против условий труда на производстве, вторые бойкотируют товары соответствующих брендов.
Серьёзным вопросом являются политические и экономические отношения на Глобальном Севере после преодоления неравного обмена. Мы, без сомнения, станем материально беднее, – что, впрочем, не означает, что наша жизнь станет беднее в целом. Вполне вероятно, что она станет даже богаче, поскольку будет опираться на новые принципы, не превозносящие потребление и экономический рост. В любом случае нет смысла ждать всемирного перераспределения ресурсов, чтобы начать жить по социалистическим принципам. Эту жизнь можно и нужно начинать уже сегодня. «Честная торговля» должна стать руководящим принципом международных отношений, а не оставаться лишь выбором потребителя. Мы должны быть готовы платить больше за товары, произведённые на Глобальном Юге. Следовательно, нам придется меньше потреблять, а некоторые товары производить самостоятельно.
Основанием для таких перемен могут быть только ценности, ориентированные на общее, а не личное благо; общественную, а не частную собственность. Возьмем в качестве примера два важных учреждения: университеты и больницы. Двадцать лет назад все политические силы Западной Европы сходились на том, что работа этих институтов не должна сводиться к получению прибыли. Сегодня же приватизация стала обычным делом. Однако альтернативы существуют, что бы ни внушали нам неолиберальные идеологи. Общественный транспорт может быть действительно общественным, финансовая и банковская система могут находиться под демократическим контролем, а лекарства могут производиться в соответствии с потребностями людей, а не корпораций. Люди по всему миру выиграют от пресечения финансовых спекуляций, повышения корпоративных налогов и закрытия налоговых убежищ. Мы должны поднимать эти вопросы, если хотим продвинуться в сторону более справедливой экономики и понять, каким будет общество будущего.
Было бы наивно думать, что правящие классы останутся в стороне. НАТО будет играть ключевую роль в предстоящих военных конфликтах. Война всегда была связана с империализмом; противодействие ей всегда было делом антиимпериализма. Это касается как конфликтов между империалистическими странами, так и агрессии против Глобального Юга. Активисты на Глобальном Севере должны заниматься подрывной работой внутри империалистических стран.
Антивоенные кампании не будут пользоваться большой поддержкой у всего рабочего класса (и, разумеется, у государства), однако они способны объединять различные слои населения. Ключевым вопросом сегодня является противостояние увеличивающемуся военному присутствию НАТО на Глобальном Юге.
Если кризис капитализма затянется, то нынешняя волна правого популизма на Глобальном Севере может привести к установлению фашистских режимов. Оказавшись у власти и заполучив в своё распоряжение армию и полицию, правые силы начнут оказывать давление на судебную систему, СМИ, учебные заведения. Полиция и спецслужбы за время «войны с терроризмом» сосредоточили в своих руках множество технических и людских ресурсов. Их цели и приоритеты могут очень быстро измениться, поэтому мы должны быть готовы к противостоянию с государством, в организационном и практическом плане.
Избежать подобного поворота событий можно при наличии сильных антифашистских движений. Нацисты пришли к власти в Германии через парламентские выборы. Социал-демократам и коммунистам слишком долго не хватало единства для того, чтобы противостоять им. В борьбе с правым популизмом и фашизмом важно создавать широкие альянсы; сектантство только ослабляет сопротивление.
При глобальном неолиберализме деньги и товары могут пересекать границы без каких-либо ограничений, в отличие от людей, особенно из бедных слоёв, которые лишены такого права, даже если они бегут от войны, стихийных бедствий, нищеты или политических репрессий. Мигранты и беженцы считаются обузой, угрозой для местного населения, и везде перед ними закрываются двери. Границы Глобального Севера – трагическое олицетворение военизированного государственного насилия, опирающегося на расистские предрассудки. Национал-шовинизм издавна служит расколу международного рабочего класса, потому борьба с ним должна быть неотъемлемой частью любой антиимпериалистической политики. Мы должны требовать свободы передвижения для всех и соблюдения принципа «никто не является нелегалом (no one is illegal)» – не в качестве жеста доброй воли, а потому что это справедливо. Миграция, которую мы наблюдаем сегодня, есть результат империалистической политики. Люди бегут на Глобальный Север потому, что империализм, – начиная с колониальной его стадии и заканчивая неолиберальной, – уничтожил мирную жизнь на Глобальном Юге. На Севере сегодня существуют многочисленные антирасистские сообщества и объединения солидарности с мигрантами, и их необходимо укреплять и расширять. Однако важнейший вопрос заключается в том, установят ли они связи с движениями Глобального Юга и создадут ли единый с ними фронт.
В одиннадцатой главе я рассмотрел факторы, которые Джон Форан [Джон Форан (род. 1955) – американский социолог. В своей работе «Захват власти» на основе анализа тридцати девяти революций, произошедших в странах Третьего мира в период с 1910 до 2005 гг., он выделяет пять необходимых условий для успеха революции: 1) экономическая зависимость, 2) репрессивный режим, 3) культура сопротивления, 4) революционная ситуация, вызванная экономическим и политическим кризисом и 5) расстановка сил на международной арене, открывающая окно возможностей. — Прим. пер.] считает необходимыми для успеха революции; к ним относятся культура сопротивления и окно возможностей для глобальных политических перемен. Волнения в одной стране часто нарушают спокойствие и во многих других – это следствие глобальной политической системы, построенной на национальных государствах. Ввиду этого международные объединения будут играть ключевую роль в организации эффективного сопротивления. Культура сопротивления вдохновляет людей на борьбу аналогично тому, как когда-то вдохновляла революция в России, партизанская борьба во Вьетнаме и эксперимент в Чьяпасе. Влияние, которое может оказать та или иная культура сопротивления, зависит от её способности объединять вокруг себя людей и развивать собственные социальные институты. Психологические факторы, такие как решительность, самопожертвование и смелость, также имеют большое значение. Общественные движения могут помогать друг другу материальными ресурсами и знаниями. Они могут связать руки государству и тем самым создать окно возможностей.
Такое окно появляется всякий раз, когда сверхдержаву раздирают внутренние противоречия, когда она не успевает своевременно проанализировать политическую обстановку или теряет контроль за переменами в обществе, в результате чего её возможности подавления революционных сил заметно уменьшаются. В этом случае культура сопротивления открывает окно возможностей, которое в свою очередь лишь ещё больше усиливает её.
Сегодня, спустя десять лет после последнего кризиса капитализма, существует немало движений, критикующих неолиберализм, но всё ещё нет чёткой общей стратегии и тем более руководства. Мотивация антиимпериалистического сопротивления на Глобальном Севере отличается от мотивации на Глобальном Юге. На Севере антиимпериалистическая позиция – это выбор, который зависит от личных обстоятельств и политических убеждений. Как результат, мы наблюдаем высокую текучку кадров и недолговечность организаций. На Глобальном Юге антиимпериалистическое сопротивление непосредственно связано с ежедневной борьбой против угнетения и эксплуатации. Борьба на Юге должна быть ориентиром для активистов Севера.
Среди левых широко распространены дискуссии об организационных формах (вертикальные или горизонтальные), идейном единстве и работе с массами. Организации, в которых я состоял, были очень сплочёнными, но не имели значимого влияния в обществе. Мы не уделяли должного внимания политическим альянсам. Сегодня я убеждён в том, что наличие одной партии во главе революционного движения нереалистично и нежелательно. Дни Коминтерна давно прошли. Нам нужны организации, способные сочетать эффективность и стратегическое мышление большевиков с работой в широких объединениях с различными общественными движениями. Нет никаких противоречий между деятельностью внутри узких и широких объединений. Мы можем – и должны – работать в обоих направлениях. Мы также должны признать, что существуют как централизованные, так и децентрализованные формы власти. Захват государственной власти необходим для революционных преобразований, но в целом этого недостаточно. Капитализм опирается не только на социальные институты, но и на общественные отношения, нормы, ценности, традиции. Поколение, выросшее в эпоху неолиберализма, насквозь пропитано его ценностями. Поэтому бороться с буржуазной культурой необходимо не только до момента захвата власти, но и после.
Долгосрочная перспектива
Новый мировой порядок не свалится с небес. Нам предстоит совершить ещё немало попыток установить его, в том числе неудачных. Переход к капитализму от докапиталистических способов производства занял несколько столетий.
Первые социалистические идеи XIX века основное внимание уделяли Европе: ожидалось, что революция произойдёт в передовых капиталистических странах и повлечёт за собой освобождение колоний. Так эта идея мировой революции была изложена в «Манифесте коммунистической партии». Эти представления потерпели крах во время Первой мировой войны, когда европейские социал-демократы отреклись от интернационализма в пользу социал-империализма. Русская революция сместила фокус мировой революции на Восток, но позиции капитализма в развитых странах были слишком сильны, чтобы произошёл переворот всей мировой системы. Ленин понимал это и был очень обеспокоен выживанием Русской революции.
В Китае наступление социализма всегда воспринималось не как неожиданное потрясение, а как длительный процесс. Китайские коммунисты понимали, что классовая борьба будет продолжаться и в социалистических странах, пока мировая экономика остаётся капиталистической. Советское правительство не придавало этому должного значения, что сыграло свою роль в крушении СССР. Посмотрим, что будет в Китае.
Текущая ситуация в мире характеризуется кризисом неолиберального капитализма и закатом гегемонии США. Мир, каким мы его знаем, рушится у нас на глазах. Общественные движения, стремящиеся построить нечто новое, раздроблены и дезориентированы. Но главная проблема состоит в том, что время на исходе. У нас нет лишних ста лет. Капитализм накопил достаточно сил, чтобы положить конец всей экосистеме; наши военные арсеналы уже способны уничтожить планету.
Невозможно предсказать, что произойдёт в ближайшие пятьдесят лет. Всё зависит от исхода конфликтов в предстоящем хаосе. Результатом может стать как равноправный и демократический мир, так и, напротив, система авторитарная, с огромным уровнем неравенства, – к примеру, в форме неофеодализма или враждующих карликовых государств, опирающихся на расовую и культурную дискриминацию. Возможно, появится нечто вроде «дружелюбного фашизма» [См. книгу «Friendly Fascism» (1980) Бертрама Гросса. — Прим. пер.], в котором 20% населения будут жить в достаточно равноправном обществе за счёт эксплуатации и угнетения остальных 80%.
Мы не можем точно предсказать будущее, но у нас должен быть его образ, вдохновляющий нас и наполняющий надеждой, без которого тяжело справиться с нашими краткосрочными и среднесрочными задачами. Нам нужно представить мир без современных экономических и политических проблем. Необходимо понимать историю как динамический процесс. Социалистическая теория прошлого определила проблемы капитализма и обрисовала общество, в котором эти проблемы будут решены. Пролетаризация, фабричная работа, модернизация и т. д. – всё это не только аспекты капитализма, но и инструменты, позволяющие нам выйти за его пределы. Сегодняшняя глобализация и информационные технологии также являются и плодами капитализма, и инструментами для его преодоления. Глобализация приведёт к столкновению между бедными и богатыми странами, исход которого может положить конец империалистической системе. Будем надеяться, что мир в итоге станет более демократичным, а национальные конфликты уйдут в прошлое. Неолиберальный фокус на индивидуальности положит начало новым формам коллективности, в которых будут уважаться различия и личная свобода. Парадокс глобального капитализма заключается в том, что он устранил любое вразумительное оправдание человеческих страданий и вместе с тем продолжает их воспроизводить.
Мы стоим на пороге решительной битвы. Ответное наступление капитализма, начавшееся тридцать лет назад, начинает выдыхаться. Системные кризисы все труднее сдерживать. Ставки как никогда высоки. Погибнет ли система в экологической или ядерной катастрофе, уничтожив вместе с собой весь мир? Трансформируется ли она в глобальный апартеид? Или, быть может, уступит сильным антикапиталистическим и антиимпериалистическим движениям? Если рабочие Глобального Юга разорвут глобальные производственные цепочки, страны центра утратят свою власть.
Глобальная перспектива
Сложно представить, что неравноправный мир, в котором мы живем, продержится еще долгое время. Миллионы новых пролетариев, работающих за низкую заработную плату и в опасных условиях на Глобальном Юге, рано или поздно восстанут. В эпоху информационных технологий несправедливость глобального неравенства стала очевидной для всех. Новый пролетариат далеко не бессилен: именно на него опирается глобальный капитал. Китай, Индия и Бразилия стали крупными игроками в мировой экономике, и население этих стран имеет общий интерес в изменении системы, в которой сегодня они отчуждены от плодов своего труда. Будущие восстания неизбежны и они могут оказаться смертельным ударом для капитализма. Но для того, чтобы это произошло, необходима организация. Только организованное сопротивление может перековать возмущение и гнев в политическую деятельность, способную принести реальные изменения. Под силу ли это старым организациям левых, – коммунистическим партиям и профсоюзам, – нам еще предстоит выяснить. Они смогут достичь результатов, только если будут открыты к переменам и к новому социалистическому видению.
Единый фронт рабочих Глобального Юга и Севера – это необходимость. Сейчас эта перспектива, возможно, выглядит весьма туманной, но всё может очень быстро измениться. Затянувшийся кризис капитализма неминуемо усилит антикапиталистические движения на Глобальном Севере. Вместо того чтобы собираться под знамёнами правого популизма или левого реформизма, рабочие классы могут заново открыть свое революционное наследие.
Согласно Джону Форану, объективные условия для революции уже сложились: капитализм находится в структурном кризисе, пролетариат Глобального Юга выдвигает социально-экономические требования, а в большинстве стран Глобального Юга установлены репрессивные режимы, прислуживающие НАТО и транснациональным институтам (ВТО, Всемирный банк и т. д.). Наступление революционной ситуации неизбежно, – но её исход неясен. Смогут ли левые эффективно организоваться и противостоять империалистическому контрнаступлению? Смогут ли объединиться, невзирая не национальные границы? Смогут ли создать образ будущего и реалистичные стратегии? Смогут ли мобилизовать население и убедить его, что ему под силу изменить мир?
Антиимпериализм будущего, в отличие от антиимпериализма 1970-х, не будет ограничиваться национально-освободительной борьбой. Национальное государство начало утрачивать свое значение уже в конце XX века, поэтому антикапиталистическая борьба XXI века будет носить интернациональный характер.
Глобализация капитализма была односторонней: выгоду от неё получило меньшинство. Глобальный Юг по-прежнему эксплуатируется, а неравенство в странах Глобального Севера только увеличивается. Капитализм всегда разделял рабочий класс, а люди эксплуатировались задолго до появления капитализма [James M. Blaut, The National Question. Decolonizing the Theory of Nationalism. London & New Jersey: Zed Books (1987), Chapter 7.]. Со временем правящие классы отдельных стран стали настолько могущественными, что смогли распространить свое господство на чужие территории. Такова экономическая логика: капитал не может эксплуатировать определенный класс до бесконечности, не рискуя нормой прибыли. В конце концов, чтобы создать рынок с покупательной способностью, необходимо платить рабочим больше прожиточного минимума. Для того чтобы компенсировать высокую заработную плату в метрополии, необходимо найти работников в другом месте, которым можно платить меньше или не платить вовсе. Неслучайно в рабов обращали преимущественно иноземцев. Приписывание неких различий в уровне культуры и нравственных ценностях другим всегда было важной частью легитимации рабства. Порабощение «соотечественников» немедленно поднимает такие моральные вопросы, которые мало кого волновали в другой ситуации, когда европейцы сводили африканских рабов в могилу непосильным трудом или истребляли коренные народы на месте своих будущих поселений.
Разделённые рынки труда – продолжение этой истории, и расизм всегда играл для них важную роль. Расовая сегрегация оправдывала угнетение и эксплуатацию народов, заклеймённых неполноценными. Пролетариат империалистических стран зачастую не был против такой политики. Её наследие живо по сей день и проявляется в предубеждениях против иностранцев, «чужаков», особенно, если они прибывают из стран Глобального Юга.
Глобальное разделение внешнего рынка труда отражается и в разделении внутреннего рынка труда в странах Севера. Мигранты Юга отличаются от экспатов Севера и подвергаются дискриминации при поиске жилья или получении образования. Расизм может иметь менее выраженную форму, но он глубоко укоренён в капиталистическом обществе и будет существовать до тех пор, пока существует разделение рабочего класса. Кто-то скажет, что это неизбежность, поскольку люди эгоистичны по своей природе и склонны использовать более слабых в своих интересах, но я не разделяю подобных убеждений. Поведение людей определяется социальными, политическими и экономическими условиями. Если мы хотим, чтобы люди действовали иначе, необходимо изменить эти условия. Несмотря на господствующий сегодня пессимизм я считаю, что это возможно. Капитализм сам предоставляет инструменты, необходимые для искоренения антагонистического мышления. Как глобальная система, он объединяет людей всего мира, и как только они осознают свои общие интересы, революционная перспектива станет реальностью.
Классовая принадлежность окажется важнее гражданства. Мы будем считать себя в первую очередь не представителями США, Великобритании или любой другой страны, а человечества в целом. Нам нужно выйти за пределы национальной идентичности и стать гражданами мира, и этот процесс уже идёт. Образ нашей беззащитной голубой планеты посреди тёмной галактики символизирует нашу общую судьбу. То, что все мы связаны, – экономически, политически, экологически, – становится все более и более очевидным. Все мы знаем, что государственные границы не способны остановить загрязнение окружающей среды; невозможно также отрицать политическое, моральное и правовое значение всеобщих прав человека. Кризис капитализма носит глобальный характер.
Исторически термин «интернационализм» был связан с нациями и национальностями. Пришло время заменить его понятием, выходящим за пределы национальной идентичности, – глобальной солидарностью между людьми, а не нациями. В грядущие десятилетия станет ясно что нас ждёт в будущем – всемирное объединение или военные конфликты и разрушение окружающей среды с катастрофическими последствиями. К счастью, наше будущее в наших собственных руках. Кризис капитализма неизбежно приведёт к тому, что радикальные перемены будут на повестке дня. И если мы будем достаточно сильны и организованны, мы сможем предотвратить бедствия и вступим в новую многообещающую эпоху. Что нам нужно сегодня больше всего, так это глобальная перспектива.
Перевод осуществлён по изд.: Torkil Lauesen. The Global Perspective: Reflections on Imperialism and Resistance, 2018.
09.02.2025
↑