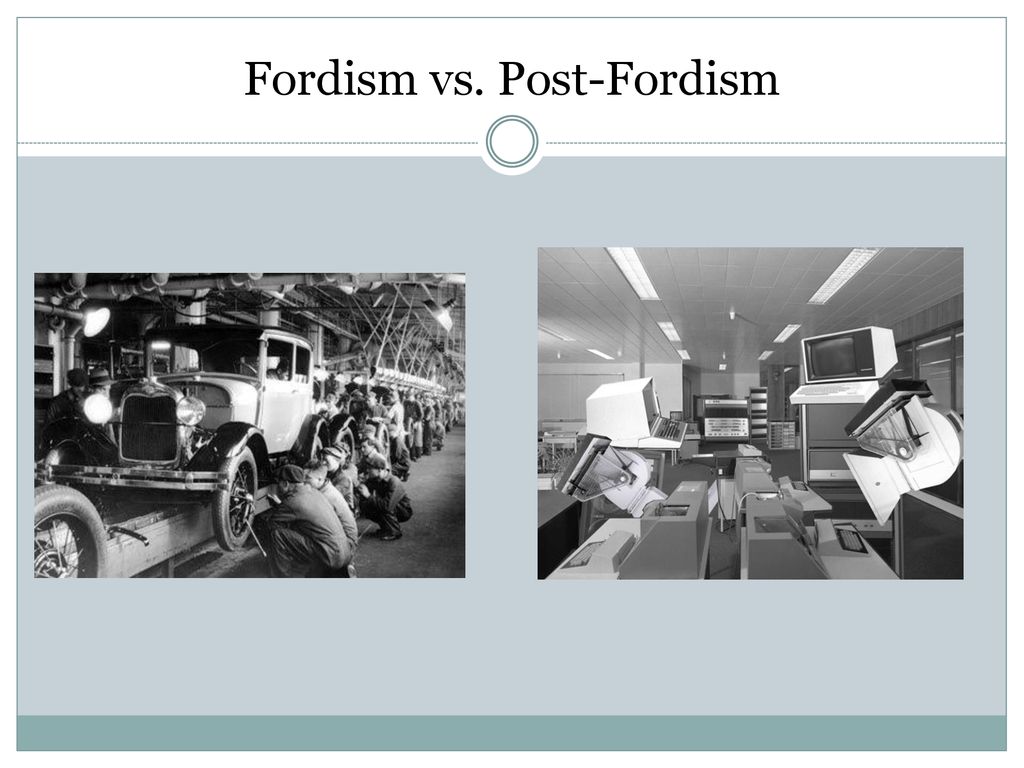Оригинал статьи был первоначально опубликован на сайте Ревкульт
Автор: Даниил Гордеев
Понятие «постмодернизм» уже давно стало оскорбительным как среди левых, так и среди правых. Поразительно при этом, что почти никто не дает ясного определения, что же такое постмодернизм. Обычно так называют состояние современной культуры и общества примерно с конца прошлого века. Такую культуру характеризуют как релятивистскую, эфемерную, фрагментированную и хаотичную. Постмодернизм связывают с отрицанием наличия истины и ироническим отношением ко всему.
На западе постмодернизм анализируется преимущественно как культурное явление. Его корни прослеживаются в архитектуре, живописи, кино, литературе и науке. Французский постструктуралист Жан-Франсуа Лиотар одним из первых ввел в широкий оборот понятие постмодернизм. Для него постмодернизм — эпоха недоверия к «метанарративам», большим рассказам — описательным и объяснительным моделям. Одним из таких «метанарративов» является марксизм. Проблема «метанарративов» для Лиотара состоит в том, что они страдают детерминизмом, внутренне негибки и часто используются властями для самолегитимации. Тотальность «метанарративов» противоречит свободному духу исследования. «Метанарративы» от христианства до марксизма должны погибнуть в эпоху постмодернизма. Хотя сам Лиотар об этом не говорит, похоже, что единственным «метанарративом» должен остаться либеральный капитализм.
Постмодернизм был важной темой исследования и для марксистов. Например, Фредрик Джеймисон в своем знаменитой книге анализирует культурную сторону постмодернизма, называя ее культурной логикой позднего капитализма. Джеймисон указывает на ряд экономических предпосылок этого явления, но цельной картины он не дает. Для Джеймисона отношения базис/надстройка больше не имеют значения: в информационную эпоху такое противопоставление кажется ему нежизнеспособным. Культурная надстройка для него становится не менее важной, чем экономический базис.
Последний представитель Франкфуртской школы Юрген Хабермас на заре эпохи постмодернизма вступился за модерн и идеалы просвещения: для него модерн означает использование знаний и технологий для освобождения и улучшения жизни людей. Тогда как для его учителей Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера модерн означает бездушную рациональность, технократию, приведшую к ужасам середины XX века.
Вклад в разработку проблемы внесли и британские марксисты. Алекс Каллиникос вообще отрицает существование постмодернизма, а Терри Иглтон и Перри Андерсон. Истоки постмодерна (1998) не выходят за рамки анализа культуры.
Одним словом, большинство ученых, исследовавших вопросы постмодернизма, действовали в русле западного марксизма, сместив внимание с экономики на культуру.
Отечественные дискуссии по поводу постмодернизма обычно касаются исключительно философской стороны проблемы. Анализируя интеллектуальные корни, авторы отмахиваются от анализа экономических истоков постмодернизма, ссылаясь лишь на его родство с неолиберальной политикой, проводимой с 1980-х годов.
Но никто из авторов не дает системный анализ истоков постмодернизма. Во многом это связано с упадком марксистской политэкономии и ее оторванности от философии. Но, тем не менее, и в этой области еще остаются крупные исследователи. Например, Дэвид Харви.
Харви — один из самых известных политэкономов современности, автор ряда книг по урбанистике, в которых он анализирует городское пространство с марксистских позиций, неолиберализму, а также великолепных лекций по «Капиталу» Карла Маркса, частично уже переведенных на русский язык. Харви, вопреки традиции западного марксизма, подходит к проблеме постмодернизма не с культурологической, а с исторической точки зрения и анализирует экономические истоки данного культурного явления. Книга «Состояние постмодерна» написана им в 1989 году, но переведена на русский язык совсем недавно. С момента написания книги прошло более 30 лет, но высказанные в ней идеи не потеряли своей актуальности и дают нам марксистское понимание постмодернизма.
Ключевой тезис Харви состоит в следующем: несмотря на то, что постмодернизм манифестирует себя как принципиально новое состояние общества и культуры, он является лишь слегка изменившейся культурной надстройкой капиталистической системы, которая хоть и претерпела определенные изменения, не утратила свои фундаментальные черты. Капитализм изменился, но нельзя говорить о каком-либо качественном скачке: общество не стало ни постиндустриальным, ни посткапиталистическим.
Что же это за фундаментальные черты капиталистической системы? Во-первых, ориентация на рост. Без извлечения как можно большего количества прибавочной стоимости, ее накопления и инвестирования, существование капитализма невозможно. Во-вторых, эксплуатация труда и классовое господство. Так как источником прибавочной стоимости является рабочая сила, капиталистическая система не может обходиться без эксплуатации и необходимой для этого системы трудового контроля. В-третьих, капитализм характеризуется технологической и организационной динамикой, неизбежностью и неотвратимостью прогресса. Принудительные законы конкуренции, о которых писал Маркс, заставляют капиталистов внедрять инновации, чтобы на короткий срок получить преимущество на рынке. Капитализм разрушает старое, чтобы создать новое и этот процесс кажется бесконечным. «Созидательное разрушение» — как назвал эту черту капитализма Йозеф Шумпетер. И, в-четвертых, постоянная подверженность капитализма кризисам перепроизводства товаров и перенакопления капитала, возникающим из-за внутренних противоречий системы.
Эти черты капитализма описал еще Маркс, но характерны и для современного капитализма. Его теоретическая модель, в силу своей абстрактности, не потеряла актуальность до сих пор. Но капитализм меняется в частностях. Следовательно, меняется и его культурная надстройка.
Капитал на высокой скорости
Оглавление
В обосновании культурного перехода от модернизма к постмодернизму Харви использует схему оборота капитала, предложенную Марксом во втором томе «Капитала». Хотя Харви и не ссылается на него прямо, во введении к сборнику своих лекций по «Капиталу» он пишет, что наиболее ценные идеи для своей теории постмодернизма он почерпнул именно оттуда.
Согласно Марксу, капитал — это стоимость в движении. Капитал совершает оборот и попеременно принимает три функциональные формы: денежную, производительную и товарную. На денежный капитал приобретаются товары: рабочая сила и средства производства. Капитал в виде рабочей силы и средств производства пускают в производство, где он принимает производительную форму. В процессе производства создается новый товар, но уже большей стоимостью, так как к стоимости рабочей силы и средств производства присоединилась прибавочная стоимость. Результатом процесса производства является создание товара — стоимость теперь принимает форму товарного капитала. Товарный капитал реализуется снова за деньги, но уже за большую сумму, чем авансированную, так как в производстве стоимость возросла за счет прибавочной стоимости. В результате стоимость опять принимает форму денежного капитала, но уже возросшего, а капиталист получил денежный капитал большей величины, чем он изначально авансировал.
На возросший денежный капитал капиталист снова покупает рабочую силу и средства производства, чтобы произвести товары большей стоимости и снова их продать.
Таким образом, стоимость совершает бесконечное движение по схеме:
Д — Т — П … П … Т’ — Д’ — Т — П … П … Т’’ — Д’’ …
Такая схема выглядит настолько гладко, что, кажется, будто капиталистическое производство может функционировать бесконечно. Именно в этом видела недостаток данной теории Роза Люксембург. Но как раз-таки эта схема и показывает, где капитализм подвержен кризисам. Любое замедление смены формы ведет к кризису перепроизводства. Если денежный капитал не сможет достаточно быстро превратиться в производительный из-за нехватки рабочей силы и средств производства, то произойдет перенакопление денежного капитала. Если произведенный товар не сможет достаточно быстро реализоваться на рынке, то произойдет перепроизводство товарного капитала.
Параллельно с этим падает норма прибыли. Причина — рост автоматизации и увеличения органического строения капитала. Уменьшается разница между изначально вложенным денежным капиталом и денежным капиталом, который приносит продажа вновь созданных товаров. Полный цикл оборота капитала приносит капиталисту все меньше и меньше денег.
Но падению нормы прибыли противостоит ряд факторов. Один из них — ускорение оборота капитала благодаря внедрению технических и организационных инноваций. Ускорение оборота капитала означает больше прибыли для капиталистов. Если раньше при норме прибыли в 10% авансированный капитал стоимостью в 100$ оборачивался один раз в год, то владелец капитала получал прибыль в 10$. Сейчас же, даже при уменьшении нормы прибыли до 7%, капитал той же стоимость за год может обернуться дважды, и владелец капитала получит годовую прибыль уже в размере 14$ = (100*7%)*2. Следовательно, даже при падающей норме прибыли, годовая норма прибыли возрастет за счет увеличения количества оборотов капитала за год.
Именно поэтому одно из главных направлений развития капиталистического общества — внедрение технологий и организационных методов, направленных на ускорение оборота капитала.
Ускорение оборота может проводиться путем сокращения времени пребывания капитала в каждой из его функциональных форм. Следовательно, денежный капитал должен как можно скорее стать производительным, производительный — товарным, а товарный — снова денежным.
Капиталисты сокращают время оборота капитала возможно в двух направлениях: путем ускорения производства (повышение производительности и интенсивности труда) и через ускорение обращения капитала (сокращение времени перехода капитала из денежной формы в товарную и обратно).
Увеличение скорости производства осуществляется за счет внедрения технологических и организационных инноваций.
К технологическим инновациями относятся, например, конвейер, промышленные роботы и иные технологии автоматизации производственного процесса.
К новым организационным формам относится, например, технологии контроля за работниками, доставка сырья и комплектующих по принципу «точно в срок», позволяющая сократить складские запасы до минимума, научная организация труда, новые средства коммуникации, моментально передающие информацию на большие расстояния.
Сокращение времени обращения проводится путем повышения скорости обмена, то есть ускорения смены функциональной формы капитала с денежной на товарную и с товарной вновь на денежную.
Денежный капитал, который и без того является наиболее мобильной формой капитала, благодаря новейшим информационным технологиям (пластиковые карты, мобильный банкинг), снизил скорость своего оборота почти до нуля.
Рост объема мировой торговли способствовал увеличению скорости оборота товарного капитала. Важным фактором в этом процессе сыграли технологические нововведения, позволяющие удешевить и ускорить грузоперевозки. Возникала новая инфраструктура для связи продавца и потребителя (сначала — универсальные магазины, супермаркеты, сейчас — интернет-сервисы) и расширилась сфера услуг, в которой стадия производства и потребления совпадают, что также способствовало снижению времени нахождения капитала в товарной форме.
Исходя из этих теоретических посылок, можно утверждать, что на протяжении всей истории капитализма одним из важнейших способов противостоять падающей норме прибыли являлось сокращение пребывания капитала в каждой из своих форм с помощью технологических и организационных инноваций.
При капитализме пространство сокращается за счет времени. Как писал Маркс в первом томе «Капитала»:
«… плотность населения есть нечто относительное. Страна, сравнительно слабо населенная, но с развитыми средствами сообщения, обладает более плотным населением, чем более населенная страна с неразвитыми средствами сообщения; в этом смысле северные штаты американского союза населены плотнее, чем, например, Индия».
Получается, что плотность населения в капиталистической экономике зависит не от отношения населения к площади территории, а от скорости, с которой население совершает экономические операции друг с другом или от времени обращения капитала. С появлением новых средств транспорта и связи ускоряется оборота капитала, что увеличивает и относительную плотность населения, о которой пишет Маркс.
Процесс ускорения оборота капитала в результате технологических и организационных инноваций Харви называет пространственно-временным сжатием. Если раньше для доставки товара из Парижа в Берлин требовалось несколько дней, то сейчас достаточно лишь нескольких часов. Если речь идет о передаче информации или денег, то счет идет уже на доли секунды. Пространство сокращается посредством времени, а мир становится глобальным.
Фордистский режим накопления
Каждый виток увеличения скорости оборота капитала меняет капитализм. Для описания этих изменений Харви вводит в своей анализ категории, нехарактерные для классического марксизма: «режим накопления» и «способ регуляции».
Данные категории он заимствует у французской Школы регуляции — направления в политэкономии 1970-х годов, которое находилось под сильным влиянием марксизма. По их мнению, капитализм в каждый момент времени можно охарактеризовать с двух сторон: с точки зрения преобладающего режима накопления и соответствующего ему способа регуляции.
Режим накопления характеризует, каким образом достигается экономическое процветание капитализма: как организовано производство, обращение, потребление и распределение. Иными словами, режим регуляции позволяет классифицировать различные этапы развития производственных отношений (в широком смысле) в рамках капитализма.
Каждому режиму накопления соответствует определенный способ регуляции — набор методов, которыми достигается социальная стабильность. Способ регуляции включает в себя набор властных практик, которые государство и капиталисты применяют для поддержания существующего режима накопления, а также культурные, образовательные и духовные практики, направленные на формирование определенного стиля поведения, наиболее подходящего для функционирования соответствующего режима накопления. Переводя на марксистский язык, способ регуляции включает в себя методы, которыми господствующие классы подчиняют себе угнетенные, т. е. политическую и культурную надстройку соответствующего базиса.
Итак, каждый исторический период капитализма характеризуется определенным режимом накопления и соответствующим ему способом регуляции.
Пространственно-временное сжатие, вызванное ускорением оборота капитала в результате внедрения технологических и организационных инноваций, вызывает переход от одного режима накопления к другому, а вместе с тем и смену способа регуляции. Соответственно, результатом также являются изменения в существующей культурной и политической надстройке.
Причиной активного внедрения новых технологий и организационных методов является тенденция нормы прибыли к понижению. Высокая норма прибыли означает благоприятные условия накопления. В таких ситуациях у капиталистов отсутствует стимулы ускорять оборот. Когда норма прибыли падает — капиталисты начинают активно внедрять нововведения, сокращающие время оборот капитала, противодействуя тем самым снижению нормы прибыли.
Поэтому смены режимов накопления и, соответственно, способов регуляции, обычно сменяются в результате экономических кризисов.
Из-за Великой депрессии государства искали новый способ оживить капиталистическую экономику. Кейнсианская экономическая политика была направлена на стимулирование спроса, вложение в крупные инфраструктурные проекты, обеспечение трехстороннего партнерства между государством, профсоюзами и капиталистами, планирование на государственном уровне и научную организацию промышленного производства. Интересно, что все эти меры применялись еще в начале 1910-х гг. Генри Фордом на своих фабриках: именно он первым создал конвейерное производство, сократил рабочий день и установил достаточно высокую ставку заработной платы для своих рабочих, полагая, что они и должны стать главными потребителями производимой ими же продукции. В 1930-е гг. похожими же принципами руководствовалось в США в рамках политики Нового курса.
Данный подход показал свою эффективность в преодолении последствий Великой депрессии, а потом и во время войны, и восторжествовал в послевоенные годы во всем западном мире. Такой режим накопления Харви называет фордистко-кейнсианским. С одной стороны, у нас есть массовое промышленное производство, построенное на конвейерном принципе, а с другой — государство, которое проводит стимулирующую долговую политику, поддерживает высокий платежеспособный спрос и создает необходимую инфраструктуру. Данная система — торжество принципов модернизма, с его рациональностью и стандартизированностью. Период 1945-1973 гг. — золотой век капитализма: высокие темпы роста экономики, рост благосостояния и уровня потребления граждан. Параллельно с системой массового стандартизированного производства была создана система массового стандартизированного потребления: мечта Форда воплотилась в большинстве западных стран. Казалось бы, мрачные предсказания марксистов о конце капитализма окончательно опровергнуты.
Но закончился фордистко-кейнсианский режим накопления так же, как и начался: с кризиса перепроизводства. Послевоенное восстановление промышленности в Западной Европе и Японии привело к конкуренции на мировом рынке, что привело к падению нормы прибыли. Экономика, находившаяся в состоянии рецессии, рухнула после того как страны ОАПЕК объявили эмбарго на поставку нефти в западные страны, поддержавших Израиль в войне 1973 года. Временный компромисс между государством, капиталом и рабочими не мог продолжать свое существование.
Началась деиндустриализация стран запада и перенос производства в страны третьего мира. В результате быстрого роста госдолга, государства отказывались от своих социальных обязательств — демонтажу подверглось социальное государство.
Более того, этот же период становится временем активного внедрения новых технологий, направленных на ускорение оборота капитала. Например, появились новые и более скоростные виды транспорта, телекоммуникационные системы. Возникли и новые организационные решения: система контейнерных перевозок, реализация товаров через сети супермаркетов, возможность мелкосерийного производства, новые методы контроля за работниками.
Кейнсианско-фордистский режим накопления капитала сменился на новом витке пространственно-временного сжатия постфордистким (гибким) режимом накопления.
Гибкий режим накопления
Гибкий режим накопления означает изменения в сферах производства, обмена, распределения и потребления, которые позволили преодолеть некую ригидность фордизма.
Новые средства транспорта и удешевление грузоперевозок привели в первую очередь к расширению обмена. Примерно с 1980-х годов начинается бурный рост мировой торговли, с этого времени мир окончательно становится глобальным. Непосредственно с этим связан перенос трудоемкого производства в регионы с дешевой рабочей силой и создание сложность цепочек стоимости.
В любом супермаркете мы найдем товары со всего света, а на небольшом пространстве торгового центра собраны различные кухни мира. Эти явления — отражение современного капитализма, с его глобальной торговлей и скоростью обмена товарами.
Новую организацию труда также можно охарактеризовать как гибкую.
Наличие глобального рынка рабочей силы означает глобальную конкуренцию рабочих и приводит к подрыву силы организованного рабочего класса на Западе, а вместе с ним и социальной базы любых левых партий и движений. Как следствие — рабочие стран Запада лишились привычных для эпохи кейнсианства социальных гарантий: от постоянных трудовых договоров до пенсионных выплат.
В результате деиндустриализации и роста сферы услуг в странах Запада изменилась сама структура рабочего класса: вместо организованных на одном предприятии промышленных рабочих, способных коллективно отстаивать свои экономические и политические права, в новой экономике мы получаем кучу дезорганизованных индивидов, уже не способных стать субъектами политических изменений. Логика фрагментации отразилась и на самом рабочем классе.
Работник занимает противоречивое положение при гибком способе производства. С одной стороны, он формально больше не является наемным рабочим. Такой рабочий зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или самозанятый. Фактически он становится мелким буржуа, который не имеет постоянной занятости, зарплаты и на которого не распространяются гарантии трудового законодательства. С другой же стороны, он все равно жестко ограничен условиями, установленными корпорацией, которая предоставляет ему средства производства (например, виде цифровой инфраструктуры, с помощью которой организована работа такси или доставки). Люк Болтански и Эв Кьяпелло считают, что гибкий режим организации труда означает в первую очередь возможность капиталистов перенести на работников часть издержек производства и рыночных рисков.
Показателен пример агрегатора такси Uber. Официальное количество работников Uber — 19 000 человек. При этом количество водителей такси — порядка 3 500 000 человек. Получается, что водители, которые не имеют права собственности на главное средство производства — цифровую инфраструктуру, составляют около 0,5% от общей численность работников Uber. При этом такие «работники» лишены элементарных трудовых прав: от гарантированной занятости и зарплаты до медицинской страховки и пенсионных отчислений.
Гибким стало и производство. Мелкосерийный выпуск промышленных товаров сменил типичное для фордистского способа накопления массовое стандартизированное производство.
Необходимость в огромных промышленных предприятиях отпадает, а экономия от масштаба утратила свою актуальность.
При этом растет специализация производства: производственный процесс распадается на все более мелкие функции, которые выполняются разными людьми и компаниями. Фрагментированный рабочий, о котором писал Маркс, еще больше отдалился от заветной цели — уничтожения разделения труда.
При гибком режиме накопления изменилась также и привычная организация производства. Если для фордистского режима накопления характерна вертикальная интеграция — объединение в рамках одной компании всех этапов производства, то для гибкого накопления характерна вертикальная дезинтеграция — производство стало многоступенчатым, углубилась специализация труда. Процесс производства все больше фрагментируется. Большая часть операции отдаются на аутсорс или субконтракт: так создаются глобальные цепочки производства. Большинство компаний в 1960-е годы стремились создать внутри своей структуры отдел маркетинга. Сейчас же на аутсорс отдаются и маркетологи, и юристы, и бухгалтерия. Если посмотреть на этот процесс с точки зрения создания товара, то один товар может создаваться сотнями компаний со всего света. Например, в создании iPhone участвуют множество фирм, каждая из которых производит определенные комплектующие или их часть.
Гибкости в организации производства соответствует и гибкость в сфере потребления. Возникшая к середине XX века культурная индустрия установила невиданные ранее рамки и требования для представителей искусства, деятельность которых все больше стала напоминать работу на конвейерном производстве, главной целью которой является прибыль. В культурной индустрии так же, как и в остальных отраслях производства, требовалось ускорение оборота капитала. Посредством сменяющихся образов, которые сваливаются на нас, сократился жизненный цикл моды, разрослась рекламная индустрия, направленная на формирование новых потребностей.
Искусственное сокращение ожидаемого срока службы продуктов также способствует увеличению скорости оборота капитала. Из-за широкого распространения новых материалов появляются одноразовые товары от посуды до одежды.
“Состояние постмодерна” написана задолго до великой рецессии 2008 года, но и этот кризис можно описать исходя из теории Харви. Последствием кризиса стало очередное резкое ускорение пространственно-временного сжатия: именно с этого момента формируется так называемый платформенный капитализм, при котором сфера услуг организуется через современные IT- технологии, позволяя сократить время поиска потребителя для предлагаемой услуги, тем самым еще сильнее ускоряя оборот капитала. Одновременно с этим новые технологии окончательно разрушают привычные формы трудовых отношений, лишая работников стабильной занятости и возможной правовой защиты.
Скорость оборота капитала искусственно увеличивается и за счет снижения ожидаемого срока службы продукта. Например, новые модели телефонов появляются каждый год, а производители через выпуск нового программного обеспечения искусственно замедляют работу предыдущих моделей, чтобы стимулировать продажи новых.
Надомная, или как ее сейчас принято называть «удаленная», работа, размывающая границы между работой и личной жизнью, также способствует ускорению оборота капитала, путем снижения непроизводительного времени для работников, например, времени, затрачиваемого на дорогу или на общение с коллегами.
Средства электронной слежки, от камер наблюдения до контроля за движением зрачков или курсора на экране, аналогично способствуют росту интенсивности труда, что также ускоряет оборота капитала.
Данные события вполне укладываются в логику теории Харви: падающая норма прибыли вызывает необходимость ускорения оборота капитала путем внедрения новых технологических и организационных инноваций.
Неолиберализм — политическая надстройка гибкого капитализма
Новому режиму накопления соответствует и новая надстройка, новый способ регуляции — неолиберальное государство и постмодернистская культура.
Неолиберальное государство — политическая надстройка. Для новой экономики нехарактерно государственное планирование, поэтому отпадает необходимость в государстве, которое непосредственно организует экономические процессы. Количество госслужащих сокращается, снижаются налоги и уменьшаются государственные расходы, а государственная собственность приватизируется. Переход к такому типу государственного управления являлся объективным следствием — быстрота принятия решений в государственном секторе не соответствовала повысившейся скорости оборота капитала. Государству недоставало гибкости, чтобы обеспечить надлежащее функционирование капиталистической экономики, поэтому его роль была снижена, а функции — делегированы частному сектору.
Традиционная левая политика, в результате упадка промышленного рабочего класса, сменила свою социальную основу. Теперь ее социальной базой являются малые ущемленные группы. Одним словом, левая политика из политики рабочего класса, которая выражает интересы угнетенной группы и отражает основное противоречие капитализма, превратилась в политику идентичностей, ориентированную на защиту интересов различных малых групп. Как следствие — смещение акцента с экономических проблем на культурные.
Для экономических и политических процессов при гибком режиме накопления характерна логика фрагментации и парцелляции. Углубляется специализация, а производственные цепочки постоянно увеличиваются. Даже для проведения несложных работ цепочка субподрядчиков разрастается до десятков.
Все это стало возможно благодаря новым технологиям, в первую очередь средствам связи и транспорта. Произошел процесс уничтожения пространства посредством времени. Плотность мира, вспоминая вышеприведенную цитату Маркса об Индии и США, благодаря новым технологиям увеличилась как никогда.
Постмодернизм — культурная надстройка гибкого капитализма
Процесс пространственно-временного сжатия вызывает изменение субъективного восприятия времени и пространства. Такие изменения находят отражение в культуре.
Очередной виток пространственно-временного сжатия, вызванный развитием промышленного капитализма в середине 19 века, способствовал формированию гомогенного времени и пространства. Новые средства перевозки, транспорта, связи и передачи информации способствовали росту скорости и количества совершаемых экономических сделок и, следовательно, экспансии капитализма. С ростом торговли формировались единые экономические пространства. В рамках отдельных государств это способствовало появлению наций. В международном масштабе это вело к глобализации.
Данные процессы способствовали формированию культуры модерна и нашли отражение в соответствующих произведениях искусства. Модерн выступает культурной логикой промышленного капитализма, для которого характерны рационализм, вера в науку, истину и прогресс, борьба с традициями и предрассудками. Модерну присущи стремление к планированию и стандартизации. Но сам мир эпохи модерна — фрагментарный и эфемерный, хаотичный и быстро меняющейся. Перманентное стремление к прогрессу и отвержение всего традиционного приводит к состоянию постоянных культурных разрывов. «Все твердое растворяется в воздухе» — эта знаменитая фраза Маркса из коммунистического манифеста отлично характеризует эпоху модерна.
Удивительно, что вышеперечисленные характеристики мы привыкли относить к постмодерну, но на самом деле они являются характеристиками модерна. Коренным же отличием модерна является стремление понять мир, собрать воедино его разрозненные кусочки. В науке и философии это делается с помощью больших научных описательных моделей, тех самых «метанарративов». В политике и экономике — через государственное планирование и масштабные проекты (как в плановой, так и в рыночно-кейнсианской экономике). Как христианство пытается объяснить, почему мир таков, то же, но другими методами, делает и наука. Марксизм предлагает свою оптику, создавая описательную модель общества.
Попытки преодоления раздробленности мира отразились в модернистской культуре. Например, типичный модернистский роман направлен на преодоление местечковости, характерной для предыдущих этапов развития литературы. Если раньше повествование велось от одного лица или от имени автора и описывало череду происходящих друг за другом событий, то для модернистского романа характерно описание разных действия, происходящие в одно и то же время или одно действие, но с разных точек зрения. Харви цитирует Флобера:
«Все должно звучать одновременно. Нужно слышать мычание скота, шепот любовников и риторику чиновников — все это в одно и то же время».
Такие тенденции можно проследить и в других видах искусства. Произведения художников- импрессионистов было важно отразить явления в движении, показать динамичность происходящего. В начале XX века особую популярность приобретает фотография: теперь запечатлеть быстро меняющийся мир стало возможно и технически.
Каждый виток пространственно-временного становится причиной смены восприятия людьми времени и пространства и, как следствие, возникновения новой культуры. Если модерн был культурной логикой промышленного капитализма, то постмодерн — культурная логика капитализма при гибком режиме накопления.
Эпоха постмодерна характеризуется отказом от «метанарративов», принятием эфемерности и раздробленности мира, отказом понять мир во всей его сложности и динамичности. Часто используемое постмодернистскими мыслителями понятие «ризома» (корневище) хорошо иллюстрирует данное утверждение — мир и причинные связи в нем стали настолько сложными и запутанными, что философы отказываются от попыток их понять.
Изменившееся ощущение времени и пространства отражено в культуре: литературе, кино, философии. Например, для типичного модернистского романа или фильма характерно взаимодействие внутри одной, пусть сложной и запутанной, рассмотренной с разных точек зрения реальностью как в «Улиссе» Джеймса Джойса или «Гражданине Кейне» Орсона Уэллса.
Постмодернистская же культура разрывает ткань реальности, отрицая целостность мира и действительности. Типичное постмодернистское искусство является солянкой различных стилей и культурных аллюзий. Это хорошо заметно по множеству постмодернистских произведений искусства: от картин Уорхола до кино Тарантино.
Неудивительная и популярность фантастики в эпоху постмодерна: реальностями можно жонглировать, ограничения устанавливаются лишь фантазией авторов. Типичная современный пример: мультсериал «Рик и Морти», с его нагромождением бесконечного числа существующих реальностей.
Особое влияние на культуру оказывает возникшая культурная индустрия, функционирующая по рыночным законам. Любое искусство превращается в товар, а творцы низводятся до статуса работников сферы услуг, которые вынуждены творить на потребу большим корпорациям.
Культурная индустрия организовала производство произведений искусства как капиталистическое предприятие. Создание популярного фильма или музыки технологически теперь мало чем отличается от производства, например, машины. Различные отделы, компании или люди производят отдельные элементы, которые отправляются в сборочный цех. Например, рисовка популярных американских мультсериалов уже давно передана в страны Азии. Производство культурных продуктов все больше специализируется и напоминает сейчас скорее производство булавки, описанное Адамом Смитом. Естественно, это отражается и на самом содержании этих произведений искусства.
Одновременно с этим падающая норма прибыли вынуждает корпорации культурной индустрии ускорять обращение капитала. Каждый год мы получаем несколько похожих фильмов про супергероев, видеоигры, в которых меняются лишь декорации, но сами механики не претерпевают почти никакого изменения и музыку, созданную по одним и тем же принципам.
При гибком режиме накопления меняются функции культурной индустрии. Если раньше культурная индустрия обеспечивала существование капиталистической системы через создание и насаждение определенной идеологии, то сейчас к этому добавилась еще и функция ускорения обращения капитала через влияние на модели потребления. Главным инструментами для этого являются средства стимулирования потребностей: реклама, медиаобразы и мода. Мода, которая раньше была уделом элиты, во второй половине XX века стала массовым явлением. Одной из причин этого является стремление ускорить оборот капитала, чтобы повысить норму прибыли: чтобы мотивировать купить вас новые джинсы, нужно убедить вас, что без них — вы неполноценны. На случай, если вы не поддаетесь на такие манипуляции, необходимость регулярно покупать новые вещи заложен в саму технологию производства — ожидаемый срок службы вещей (от одежды до техники) искусственно снижается производителями. Волатильность моды влечет волатильность капитала.
В культурной индустрии делается большая ставка на продукты моментального обращения: зрелища, события, хепенинги. Такой поворот подчинен той же логике, что и процесс деиндустриализации и роста сферы услуг в странах запада: капитал направляется в те сферы, где он сможет быстрее обернуться.
Постоянная смена мод, вызванная интересами рынка, ведет к смене эстетики. Этот процесс особенно усилился с момента перехода к гибкому способу накопления. Отсюда и характерная для постмодернизма хаотичная смена и сочетание образов.
В философии данные процессы приводят к полной потери смысла и прямо заявляемому отказу от поиска объективной истины. Научным признается коллаж из методов и понятий, а не идеи, приведенные в систему. Попытки философов эпохи модерна собрать воедино усложняющийся и распадающийся мир были наречены постмодернистами тоталитарными «метанарративами».
Исторические границы постмодерна
Таким образом, постмодернизм по Харви — культурная репрезентация очередного этапа развития капитализма, появившегося в результате нового витка пространственно-временного сжатия, вызванного ускорением оборота капитала и последующей за этим смены режима накопления и способа регуляции. В результате начались процессы фрагментации и парцелляции, характерные как для экономики, так и для политики и культуры.
Конечная причина такого перехода — падающая норма прибыли. Капиталисты противостоят этой тенденции, ускоряя оборот капитала путем внедрения новых технологий и организационных методов.
«Состояние постмодерна» хоть и написана более 30 лет назад, позволяет понять глубинные экономические причины появления и торжества постмодернизма. Харви применяет марксистский «метанарратив» к анализу постмодерна, показывая не просто его философскую несостоятельность, но и обусловленность и связь с существующей экономической системой. «Состояние постмодерна» — это осмысленное высказывание в эпоху потерянных ориентиров.
Эпохи модерна и постмодерна — это два этапа культурной надстройки или способа репрезентации экономической действительности в рамках развития капитализма. Оба этапа характеризуется возрастающей сложностью, эфемерностью, фрагментированностью и ускорением жизни. Но если мыслители эпохи модерна старались понять действительность и познать истину с помощью создания собственных больших объяснительных систем («метанарративов»), то постмодернистские авторы отказались от этой идеи, приняли сложность мира, отсутствие истины и отвергли любые попытки познать действительность.
Получается, что позиция постмодернистов — позиция агностиков: отказавшись от «метанарративов» и возможности понять мир, они одновременно отказываются и от любой возможности глобально его изменить. Если философы прошлого пытались объяснить мир, вместо того, чтобы его изменить, то постмодернистские философы сделали еще один шаг назад: они даже не пытаются понять и объяснить мир.
02.02.2025
↑