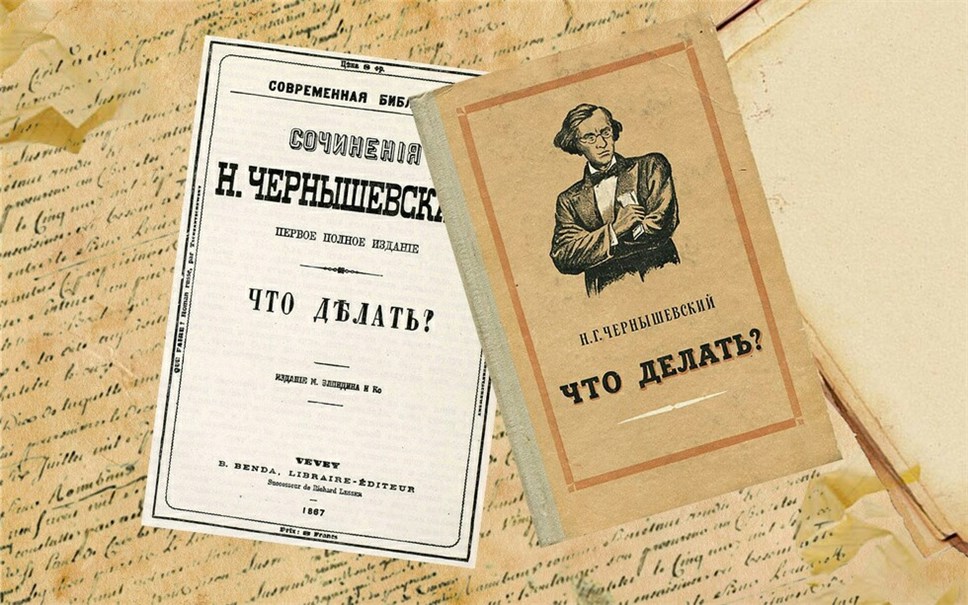Оригинал статьи был первоначально опубликован на сайте Ревкульт
Автор: Максим Лебский
«…если вы спросите среднего русского «интеллигента», были ли философами Лавров и Владимир Соловьев, вы тотчас услышите: конечно, были. А если вы скажете такому «интеллигенту», что Чернышевский тоже был философ и притом гораздо более глубокий, нежели Лавров и Соловьев, то вы приведете его в немалое изумление. Философия Чернышевского была недостаточно туманна…» Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в пяти томах. Том IV. М., 1958. С. 289
Николай Гаврилович Чернышевский оставил после себя богатое литературное наследие. Неслучайно Плеханов сравнивал Чернышевского с французскими просветителями. Интересы Чернышевского носят такие же энциклопедические масштабы. Творческая мысль русского ученого затрагивала вопросы эстетики, этики, политэкономии, философии. Но в контексте темы данной статьи нас интересуют прежде всего философские работы Чернышевского. В советской научной литературе философские взгляды автора «Что делать?» рассматривались через призму «советского марксизма». В качестве примера следует привести уже классическую работу М. Розенталя «Философские взгляды Чернышевского». Структура самой книги отражает не развитие взглядов Чернышевского во всем их противоречии, а обусловлена внутренним делением «советского марксизма»: диамат, истмат, классовая борьба. Таким образом Чернышевский изначально рассматривался через идеологическую схему, не имеющую к нему самому никакого отношения. Чтобы сделать из Чернышевского «предшественника марксизма» Розенталь собирает в своей работе различные цитаты, которые сопровождает своими комментариями. Как замечал Плеханов, сочинения Чернышевского содержат множество верных мыслей из разных областей знаний, но данные соображения не структурированы в систему, и часто сочетаются с ошибочными идеями. Г. Плеханов писал:
«В его сочинениях рассыпано немало важных замечаний, проливающих новый свет на различные вопросы науки. Подобные замечания часто вполне совпадают с важнейшими открытиями, делавшимися тогда в западной науке. Но эти проблески гениальной мысли не разработаны последовательно, не приведены в систему; поэтому рядом с ними мы встречаем у него и такие взгляды, которые уже и тогда могли считаться устарелыми, а теперь и совсем оставлены наукой». Розенталя это не смущает. Он додумывает за Чернышевского многие мысли, доходя до утверждения, что Чернышевский стихийно пользовался материалистической диалектикой и был материалистом в объяснении многих общественных процессов. Книга Розенталя вышла в 1948 г., и в ней особо подчеркивается выдающееся значение русского мыслителя, статьи которого «выполняли задачу воспитания классовой ненависти к врагам народа».
Исторический образ Чернышевского в советской историографии попал в жесткую схоластическую схему, основанную на догматическом восприятии роли марксизма в истории европейской мысли. Согласно этой схеме, практически все материалисты (пожалуй, кроме вульгарных) и наиболее умные идеалисты прошлого рассматривались в свете той дистанции, которая отделяла их от марксизма как вершины человеческой мысли. Принимая такой взгляд на марксизм, мы тем самым отходим от историчности и воспринимаем это учение вне какого-либо политического и социально-экономического контекста. Роза Люксембург в работе «Введение в политическую экономию» писала:
«Марксистское учение — это дитя буржуазной политической экономии, но дитя, рождение которого стоило матери жизни».
Марксизм мог возникнуть только в результате обобщения развития именно капиталистического способа производства. Подобные, с первого взгляда, банальные истины были забыты многими советскими историками философии. В свете трудов Маркса и Энгельса Спиноза, Гегель, Фейербах, Чернышевский и другие философы были очень слабыми и непоследовательными мыслителями – недомарксистами, которые не смогли дойти до исторического материализма.
Обычно причиной тому назывался низкий уровень производительных сил и другие материальные предпосылки. Несмотря на эти верные замечания, многие советские авторы продолжали освещать ошибки мыслителей прошлого в свете марксизма, что было в принципе неверно. Взгляды Спинозы или Канта нужно рассматривать в исторических рамках той эпохи, в которую им пришлось жить и творить. Если оценивать их взгляды, то это нужно делать в сравнении с мыслителями прошедшей эпохой, а не будущего. Оттолкнувшись от данных принципов, исследователь сможет поэтапно прослеживать историческое развитие философской мысли — от древности к современности, а не идти задом наперед — от современности к древности. Подобный ошибочный подход, например, используют авторы учебника по историческому материализму: Константинов Ф.В., Глезерман Г.Е., Гак Г.М., Каммари М.Д., Хрустов Ф.Д., Юдин П.Ф. Они не излагают историю развития философии, а разоблачают ошибки разных философ в сравнении их с марксизмом. Это также абсурдно, как обвинять античных натурфилософ в том, что они не знали о существовании электромагнитного поля и общей теории относительности, а полагали что небесные тела состоят из эфира.
Для того чтобы избежать комментирования разрозненных цитат Чернышевского, основой для написания данной статьи будет выступать лишь одна, главная философская его работа – «Антропологический принцип в философии».
На формирование взглядов выдающегося русского мыслителя решающее виляние оказали два немецких философа – Гегель и Фейербах. Не имея доступа к первоисточникам в провинциальном Саратове, Чернышевский знакомится с Гегелем в пересказе из отечественных журналов.
Тут стоит отметить, что со времен московского кружка Н. Станкевича левое гегельянство стало крайне популярным учением в кругах инакомыслящей русской интеллигенции. Плеханов пишет:
«Передовые русские люди Николаевского времени исходили в своих литературных и политических суждениях из философии Гегеля. Знаменитый германский мыслитель царил в течение некоторого времени в России так же неограниченно, как и петербургский император, – с тем, правда, отличием, что самодержавие Гегеля признавалось в маленьких и немногочисленных философских кружках, тогда как самодержавие Николая простиралось, по выражению русского поэта Пушкина, «от Финских хладных скал до пламенной Колхиды».
Однако философия Гегеля получала на российской почве крайне левую политическую трактовку, что сильно резонировало с политическими трактатами самого немецкого философа. После поступления в 1846 г. на историко-филологическое отделение философского факультета Петербургского университета, Чернышевский читает сочинения Гегеля в подлиннике на немецком, испытывая определенное разочарование:
«Он (Чернышевский — М.Л.) был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него возможность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его систему в духе левой стороны гегелевской школы. В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким являлся он в русских изложениях его системы».
В 1850-е гг. интерес к Гегелю в русском обществе резко снизился, у многих «мыслящих пролетариев» стало преобладать нигилистическое отношение к «темной философии» берлинского профессора. В центре внимания русских разночинцев находились естественные науки и вульгарный материализм (Бюхер, Молешотт, Фогт), которые противопоставлялись религии. Чернышевский не поддался этому общему отрицанию Гегеля. Советский историк философии В.Ф. Пустарнаков пишет:
«Самостоятельность, оригинальность русских философов просветителей 40–60 х годов XIX в., начиная с Белинского и кончая Чернышевским, состояли в том, что они не слепо, не догматически, не школярски, а творчески подошли к философскому наследию Гегеля, взяли у него только то, что действительно можно было органически включить в их самобытную философию, философию дела, действия, практики, философию, единственно адекватную их времени, той реальной российской действительности, в которой эти мыслители жили и работали» // Пустарнаков В.Ф. Философия Просвещения в России и во Франции: опыт сравнительного анализа. М.,2002. С. 189[/efn_note], признавая высокое значение его философии: «Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его гения, у великого мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но недостало уже силы неуклонно держаться этих оснований и логически развить из них все необходимые следствия».
После знакомства c А.В. Ханыковым, входившим в кружок петрашевцев, Чернышевский в начале 1849 г. читает «Сущность христианства» Фейербаха и становится его горячим приверженцем:
«Скептицизм в деле религии развился у меня до того, что я почти совершенно от души предан учению Фейербаха…».
Ключевой темой работ Фейербаха было рассмотрение сущности религии и ее взаимоотношений с философией. Фейербах отталкивался от тезиса «тайна теологии заключена в антропологии» и рассматривает религию как психопатологию. Он пытается объяснить христианского бога как объективированную человеческую сущность, которая воспринимается людьми в качестве высшего существа. Религиозное чувство рождается из факта зависимости человека от природы. Страх перед таинственной природной стихией рождает потребность возвеличить природу в некую особую священную реальность. Корень религии, по Фейербаху, лежит в страхе.
Человеку также крайне важно видеть перспективу достижения бессмертия. Но если древние общества видели эту перспективу в родовой жизни, то с развитием религий и появлением христианства бессмертие стало пониматься исключительно в индивидуальном плане и для избранного круга людей: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».
Фейербах занимается глобальной демифологизацией религиозного сознания, настаивая на том, что все содержание религии исчерпывается человеком:
«Мы свели внемировую, сверхъестественную и сверхчеловеческую сущность Бога к составным частям существа человеческого как к его основным элементам… Человек есть начало, человек есть середина, человек есть конец религии».
Немецкий мыслитель полагает, что преодоление религии станет точкой отсчета эпохи нового гуманизма, в центре которого будет находиться человек как абсолютная самоценность. Причем демифологизацию религиозного сознания и возвращение человеку к своей естественной сущности, Фейербах связывал с просвещением:
«Не религиозными делать людей, а образовывать их, распространять образование по всем классам и сословиям — вот, следовательно, задача времени».
«Сущность христианства» стала для Германии тем лекарством, которое излечило многих левых гегельянцев от «теистического рационализма» свойственного Гегелю. Интересно отметить, среди «излечившихся» были Маркс и Энгельс:
«Надо было пережить освободительное действие этой книги («Сущность христианства» – М.Л.), — писал через много лет Ф. Энгельс, — чтобы составить себе представление об этом. Воодушевление было всеобщим: все мы сразу стали фейербахианцами».
Фейербах полагал, что на место христианского бога Гегель в своей философской системе ставит сущность мышления, абстрагированное от личного Я. Гегельянство – это последняя ступень в развитии теологии, которая вступила в союз с логикой. Фейербах противопоставлял этому антропологический материализм:
«В чем состоит мой метод? В том, чтобы посредством человека свести все сверхъестественное к природе, и посредством природы все сверхчеловеческое свести к человеку…».
Антропологический материализм Фейербаха оказал определяющее влияние на мировоззрение Чернышевского. Основным философским трудом Чернышевского является развернутая статья «Антропологический принцип в философии», которая формально посвящена критике работы П.Л. Лаврова. Но следуя своей манере, установившейся на страницах «Современника», Чернышевский использует статью Лаврова лишь как повод для развития собственной теоретической концепции. Лавров по этому поводу заметил:
«Александр Дюма брал Генриха VIII как гвоздь, чтобы на него повесить свою драму; рецензент «Современника» взял мою брошюру как заголовок для своей философской теории».
В своей статье Чернышевский отталкивается от тезиса Фейербаха о том, что прогресс общественных наук связан с использованием в них методов естествознания. Сам себя Фейербах называл «духовным естествоиспытателем». Фейербах писал:
«Я – только духовный естествоиспытатель, а естествоиспытатель должен прибегать к инструментам, к материальным средствам. В качестве духовного естествоиспытателя я и написал предлагаемую книгу, содержащую в себе практически, т.е. in concreto, на особом предмете, но предмете всеобщего значения, а именно религии, доказанный, развитый и разработанный принцип новой философии, такой философии, которая существенно отличается от прежней философии и вполне отвечает истинной, действительной, целостной сущности человека и которая именно поэтому противоречит воззрениям людей, искалеченных и испорченных сверхчеловеческой, т.е. противочеловеческой, противоестественной религией и умозрением. Эта философия, как я уже говорил в другом».
Около половины всей обширной статьи Чернышевского посвящено рассмотрению химических и иных процессов, изучением которых занимается естествознание. Выводом же работы стало утверждение в природе принципа всеобщего детерминизма — все имеет свою причину и объяснение. Любое явление является закономерными следствием целой цепи предшествующих событий. Применяя данный принцип к анализу общества, Чернышевский полагает, что любое общественное явление можно объяснить, зная предшествующие события.
Интересно и то, какое определение дает Чернышевский мышлению:
«Мышление состоит в том, чтобы из разной комбинации ощущений и представлений, изготовляемых воображением при помощи памяти, выбирать такие, которые соответствуют потребности мыслящего организма в данную минуту, в выборе средств для действия, в выборе представлений, посредством которых можно было бы дойти до известного результата. В этом состоит не только мышление о житейских предметах, но и так называемое отвлеченное мышление».
Исходя из такого упрощенного определения Чернышевский заявляет о наличии сознания и нравственности у животных.
Он пишет:
«В действиях каждого живого существа есть сторона бессознательной привычки или бессознательного движения органов; но это не мешает участию сознательной мысли в том действии, которое сопровождается и некоторыми движениями, происходящими бессознательно».
Далее Чернышевский переходит к анализу общественной нравственности. На страницах своей статьи он развивает известный тезис о том, что во всех своих поступках человек преследует эгоистический интерес:
«При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия».
Важно отметить, что мысли Чернышевского в значительной степени перекликаются с работой Лаврова «Очерки вопросов практической философии». В ней Лавров пишет:
«Стремление к наслаждению присутствует во всех прочих побуждениях, в стремлении к пользе, к справедливости, к истине, к стройности, к деятельности вообще, потому что во всех этих случаях мы стремимся испытать известное наслаждение, физическое или умственное, или хотим устранить что-либо неприятное нам. Первое проще последних, потому что, присутствуя в последних, оно в них совокупляется с другими представлениями или преобразовывается в другие побуждения, иногда существуя лишь бессознательно в духе человека».
Но Лавров не стремится объяснить все человеческие поступки с точки зрения личного эгоизма. Стремление к наслаждению, по его мнению, составляет базу, на которой основывается, но которой не исчерпывается нравственность. В рамках каждой личности содержится двойственность, которая рождает противоречие между наличным состоянием человека и нравственным идеалом, к которому стремится личность. Именно нравственный идеал, возникающий первоначально в отдельной личности, является связующим звеном для формирования общественной нравственности.
Он возникает из желания личности приобрести достоинство. Общественный прогресс Лавров также связывал с борьбой двух идеалов – нравственного и эгоистического. В ходе постепенного внутреннего развития человек приходит к закономерному выводу, что для отстаивания собственного достоинства необходимо в первую очередь уважать достоинство другого человека. На основе взаимного уважения нескольких людей возникает справедливость.
Чернышевский в своей работе выступает в защиту принципа цельности человеческой личности. В человеке нет никакой двойственности, напротив человек обладает единой натурой, которую нужно изучать с помощью естественных наук:
«Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма… Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно».
То есть Чернышевский противопоставляет этической концепции Лаврова, базирующейся на нравственном идеале, идею разумного эгоизма. Он делает эгоизм фундаментом для своих представлений об этике, в то время как Лавров признавал эгоизм лишь на первоначальном этапе формирования нравственности. В тоже время крайне спорно выглядит стремление Чернышевского объяснить все поступки людей с точки зрения единого принципа. Мыслитель специально подчеркивает, что многообразие человеческой деятельности нужно объяснить действием одного закона – реализации личного или группового эгоистического интереса:
«Отдельный человек называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще».
В концепции Чернышевского добро – это устойчивая и продолжительная польза для отдельного человека или коллектива людей. Если предположить, что главное стремление человеке в жизни – это стремление к удовольствию, то разумным и добрым поступком следует рассматривать действие, которое приводит к достижению максимального и длительного удовольствия:
«Когда человек не добр, он просто нерасчетливый мот, тратящий тысячу рублей на покупку грошовой вещи, тратящий на получение малого наслаждения нравственные и материальные силы, которых достало бы ему на приобретение несравненно большего наслаждения».
Ключ к понимаю этики Чернышевского заключается в том, что сферу нравственности он пытается рассматривать через методологию естественных наук. Анализируя различные поступки людей, Чернышевский в сфере нравственности ищет единый закон, объясняющий все явления, наподобие закона всемирного тяготения в физике:
«До сих пор найдены только частные законы для отдельных разрядов явлений: закон тяготения, закон химического сродства, закон разложения и смешения цветов, закон действий теплоты, электричества; под один закон мы еще не умеем их подвести точным образом, хотя существуют очень сильные основания думать, что все другие законы составляют несколько особенные видоизменения закона тяготения». Пытаясь поставить сферу нравственности на естественнонаучную основу, Чернышевский находит сознание у животных и трактует все человеческую деятельность через призму эгоизма.
Безусловно, статью и взгляды Чернышевского нужно рассматривать в историческом контексте России конца 1850-х гг.
На наш взгляд, многие советские историки и философы потратили огромные усилия на объяснение того, почему Чернышевский не был марксистом. В свете философской глыбы К. Маркса Чернышевский выглядел откровенно слабым философом, которому не хватило интеллектуальных сил для осознания революционного учения автора «Капитала. Деборин делает оговорку по поводу объективных условий, которые тормозили развитие Чернышевского, но продолжает сравнивать его с Марксом:
«…он (Чернышевский — М.Л.) шел тем же путем, что и Маркс и Энгельс, что его путь развития есть п у т ь к м а р к с и з м у».
Но на деле все обстоит куда сложнее.
Чернышевский велик именно в качестве русского мыслителя-просветителя, который впервые со времен Белинского и труда «Письма об изучении природы» Герцена сделал скачок в направлении научного понимания развития общества и природы. Для России, которая только начала вылезать из поголовной безграмотности и крепостного права – это был безусловно революционный прорыв. Если французские просветители создали идеологические предпосылки для Великой Французской революции, то русским просветителям пришлось действовать в другое время и других социальных условиях. Плеханов писал:
«Что же касается его деятельности как мыслителя, то она во многом напоминает деятельность наиболее выдающихся энциклопедистов XVIII века. Ее главнейшая цель заключалась в просвещении читающей публики. Но для того, чтобы получить возможность просвещать читающую публику, нужно было, прежде всего, привести в более или менее стройную систему свои собственные взгляды. Каждое отдельное сведение, приобретаемое Чернышевским, было дорого ему только в той мере, в какой оно помогало ему выработать себе цельное миросозерцание. Как и выдающиеся французские энциклопедисты, он имел очень много знаний. Но он никогда не стремился сделаться специалистом».
Отсутствие сильной буржуазии и неразвитость капиталистических отношений, обусловили тот факт, в России просвещение соединялось с утопическим социализмом.
Если французское просвещение было осознанием буржуазии собственной исторической роли в рамках иллюзии «абстрактного гражданина», то социальным субъектом-носителем русского просвещения был слой разночинцев. Общественный идеал разночинца соединял в себе двойную цель – буржуазная модернизация и вместе с тем отрицание капитализма в пользу общинного социализма. Именно в этом заключалось глубинное противоречие просветительской идеологии 1860-х гг. – медленное развитие капитализма разлагало старый сословный уклад, выдвигая на историческую сцену разночинца, но этот разночинец стал социалистом-народником, возглавившим борьбу против буржуазного будущего России.
Исследователь В.Ф. Пустарнаков видит в социалистических воззрениях русских революционных демократов наиболее полное развитие той исторической тенденции, которая зародилась во Франции второй половины XVIII века. Но коммунистические теории Мабли и Морелли все-таки находились на периферии французского просвещения. В России – другое дело. Специфику русского революционного движения XIX века обусловила та двойная задача, которая оно было вынуждено решать. Это стало следствием полупериферийности российского капитализма, который был зачат самим крепостническим государством, терпевшим военные поражения в силу экономического отставания.
Чернышевский не был предшественником марксизма, а олицетворял собой оригинальную концепцию русского народничества, которое было частью социалистического движения, существовавшего параллельно с марксизмом. Философские взгляды Чернышевского, опирающиеся на Фейербаха, были органичной частью его социально-политической концепции «общинного социализма». Они в значительной степени повлияли на русскую интеллигенцию 1860-1870-х гг., но в своей основе они не выходили за рамки естественно-научного, антропологического материализма. Сам Чернышевский называл себя лишь «последователем» Фейербаха в философии, не претендуя здесь на какую-то оригинальность. Плеханов верно замечал: «Чернышевский прошёл ту же школу, что Маркс и Энгельс: от Гегеля он перешёл к Фейербаху. Но Маркс и Энгельс подвергли философию Фейербаха коренной переработке, а Чернышевский на всю жизнь остался последователем этой философии в том её виде какой она имела у самого Фейербаха».
Фигуру Чернышевского нужно сравнивать не с Марксом, который формировался в иной социальной и политической среде, а с тем же Лавровым. Об этом в своей книге верно заметил Плеханов:
«…если не сравнивать взглядов Чернышевского со взглядами Маркса и Энгельса, если сопоставлять с ними лишь взгляды, например, П. Л. Лаврова и других более или менее прогрессивных его современников, то нужно будет признать, что он далеко опередил их, и что, когда он сошел со сцены, в нашей литературе начался в философском, — да, к сожалению, и не только в философском, — отношении период упадка».
Если сравнивать философские взгляды двух мыслителей, то Чернышевский в философских воззрениях был на голову выше Лаврова по нескольким причинам.
Во-первых, Чернышевский открыто причислял себя к материалистической философской традиции, признавая, что он развивает принципы Демокрита и других философов-материалистов. В то время как Лавров отказывался отвечать на «метафизические вопросы» бытия, считая их неразрешимыми. Отталкиваясь от кантовской мысли о непознаваемости «вещи в себе», он полагал, что человек способен познавать лишь явления вещей, не проникая в их сущность. Поэтому люди должны в принципе отказаться от попыток решения ключевых вопросов философии: «С точки зрения антропологизма, по мнению Лаврова, невозможно знать так называемые вещи сами в себе, или сущность вещей. Теоретический и практический миры остаются неизвестными по их сущности и представляют для человека совокупность познаваемых явлений с непознаваемою подкладкою. Следует решительно отказаться от познания этой метафизической сущности и ограничиться при философском построении гармоническим объединением мира явлений».
Во-вторых, Чернышевский со своей концепцией разумного эгоизма, базировавшейся на упрощенном и утрированном понимании влияния материальной среды на человеческую психику, был на порядок ближе к научному понимаю предмета, нежели Лавров. Лавров занимался идеалистическим выведением нравственного идеала из отдельной личности. В своих работах он практически не упоминает об естествознании, в то время как Чернышевский постоянно настаивает, что базу современного знания о человеке в значительной степени формируют именно естественные науки, а не абстрактные рассуждения.
И в-третьих, Чернышевский трактовал антропологическое учение Фейербаха в строго материалистическом духе, делая упор на естествознание как научную базу антропологии, в то время как Лавров пытался эклектически совместить философию природы и философию духа в рамках одного учения. В статье «Что такое антропология?» он писал:
«Философия природы строит личность, мыслящую себя как продукт внешнего мира; философия духа, наоборот, строит личность, мыслящую себя как источник того же мира. В совокупности они заключают полный круг всего сущего, оставляя непоколебимыми все три основные принципа».
Лавров, несмотря на личное знакомство с Марксом и его трудами, жизни в Западной Европе, до конца жизни оставался эклектиком, который совмещал в своей философии механистический материализм, антропологию Фейербаха и кантианство. Чернышевский оторванный от активной общественной деятельности с 1862 г. смог в условиях изоляции сохранить материалистическое понимание природы, не имея возможности развить свое мировоззрение глубже. Он не пошел дальше Фейербаха и не оставил критики его взглядов. Именно поэтому философские взгляды Чернышевского имеют важное значение именно в рамках развития не европейской, а русской общественной мысли.
Интересно заметить, что, казалось бы, рассмотрение Чернышевским естествознания как фундамента построения антропологии предрасполагало его в будущем к положительной оценке трудов О. Конта и Г. Спенсера. Но как мы знаем из его писем к одному из сыновей, Чернышевский относился к данным мыслителям крайне критически:
«…я с первой молодости был твердым приверженцем того строго научного направления, первыми представителями которого были Левкипп, Демокрит и т. д., до Лукреция Кара, и которое теперь начинает быть модным между учеными. Я, по образу мыслей, ветеран между нынешними учеными, а они передо мною — новобранцы, неопытные рекруты, у которых слишком много неопытного усердия и мальчишеского восторга от новых для них идей, которые почти ни у кого из них еще и не переварились в головах, как должно. Потому очень многое в нынешних модных ученых книгах мне смешно, многое— гадко». И далее: «Есть другая школа, в которой гадкого нет почти ничего (если не считать глупостей ее основателя, отвергнутых его учениками), но которая очень смешна для меня. Это — огюст-контизм. Бедняга Огюст Конт, не имея понятия ни о Гегеле, ни даже о Канте, ни даже, кажется, о Локке, но научившись много у Сен-Симона (гениального, но очень невежественного мыслителя) и выучивши наизусть всяческие предисловия к руководствам по физике, вздумал сделаться гением и создать философскую систему».
Развернутой критики позитивизма Чернышевский не дает, но из отрывочных замечаний по теме, очевидно его негативное отношение к основателям данного учения. Также резко критически Чернышевский относился к идее Дарвина об естественном отборе, подчеркивая выдающееся значение трудов Ламарка, написанных в начале XIX века. В этой связи стоит признать, что Чернышевский не смог по достоинству оценить трудов Дарвина. Его философский антропологизм базировался на естествознании первой половины XIX века. В письме к одному из сыновей Чернышевский писал:
«Дело в том, что я старик. Я сформировал свой образ мыслей о ботанической и зоологической истории по книгам XVIII века и главным образом по Ламарку. Дарвинизм для меня — не новость своими справедливыми сторонами».
Стремление советских идеологов очистить Чернышевского от народничества и приблизить к марксизму обесценивало значение философских воззрений автора «Что делать?». Быть материалистом-фейербахианцем в Европе 1860-1880-х гг. уже явно недостаточно, но в России по причине отставания развития отечественной философской мысли антропологический материализм был в это время наголову выше эклектизма и субъективной социологии Лаврова и Н.К. Михайловского. Интересно отметить, что Н. Валентинов в своей книге «Встречи с Лениным» передает слова Ленина:
«Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса».
Важно отметить, что В.И. Ленин никогда не называл Чернышевского «предшественником марксизма», напротив, он считал его одним из создателей народничества и социалистом- утопистом. Ленин писал:
«Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма».
Вспоминая об этом, мы не хотим тем самым принизить Чернышевского как мыслителя, но нам кажется справедливым рассматривать его в рамках народнической традиции, а не лепить из него почти «марксиста», как это, например, делал в свое время Ю. М. Стеклов.
Чернышевский был сложным, многогранным человеком и поэтому бессмысленно вне контекста выдергивать его цитаты и на основе них делать обобщающие выводы. Крайне важно не наполнять фигуру Чернышевского как пустой сосуд собственным идеологическим содержанием, а попытаться рассмотреть его личность во всех противоречиях и метаниях, которые переживало русское общество после отмены крепостного права.
Чернышевский писал:
«Политические теории, да и всякие вообще философские учения создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ».
Чернышевский в своей философской позиции отразил общественный запрос русского разночинца, который опирался на антропологический материализм, просвещение (знание как источник прогресса).
«Да подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар? Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний…».
Именно подобного взгляда на Чернышевского придерживается Плеханов в своей незаслуженно забытой книге о великом русском просветителе.
26.01.2025
↑