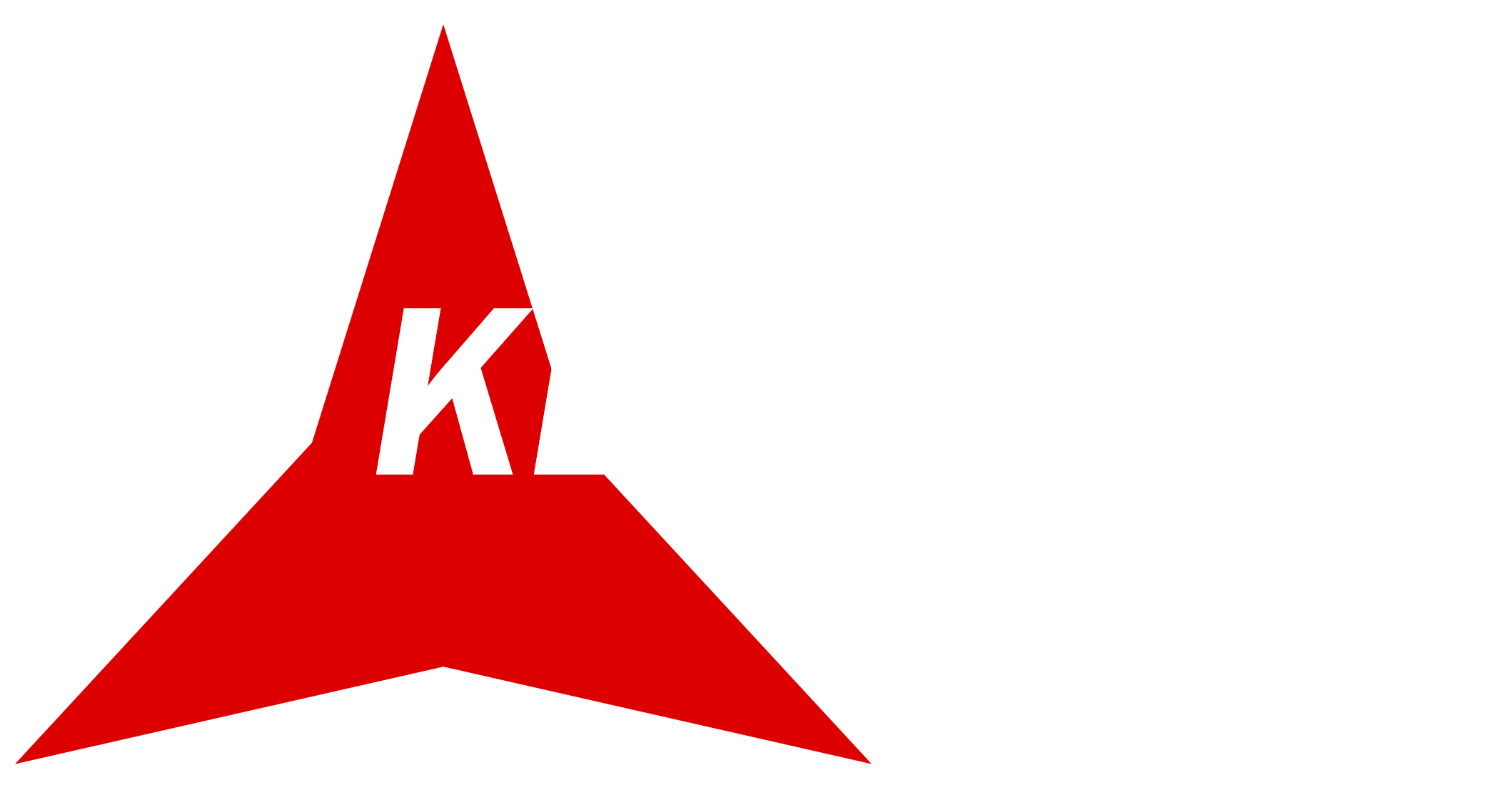Оригинал статьи был первоначально опубликован в альманахе ШТАБа «Понятия о советском в Центральной Азии»
1.
В 2014 году увидела свет книга с примечательным названием «Оксфордский справочник по истории коммунизма», включающая тридцать пять текстов, посвященных опыту «государственного коммунизма» в различных странах мира. Под «государственным коммунизмом» составители понимают политические режимы, в руководстве которых находились коммунистические партии. Для составителей справочника между этими политическими режимами и коммунизмом как особым типом общественного устройства стоит очевидный знак равенства. Предупреждая возможную критику подобного тождества, составители замечают, что «упорное нежелание Маркса давать какие-то конкретные описания коммунистического общества», с одной стороны, и «искренняя вера коммунистических лидеров в то, что «история на их стороне», и они вовлечены в долгосрочный процесс построения коммунизма», с другой, делает такое уравнивание легитимным. По мнению авторов исторического справочника, неясность изначальной концепции коммунизма, оставленная классиками, и вера в то, что именно ее на практике реализуют политики, делают коммунистическими условия в странах, где были установлены политические режимы, подконтрольные коммунистическим партиям.
Между тем, несмотря на несомненное отсутствие подробного описания коммунистического общества у Маркса и Энгельса, представление о ключевых характеристиках коммунизма, отличающих его от капитализма, из текстов классиков почерпнуть можно. В политэкономическом смысле коммунизм это общество, в котором нет частной собственности и наемного труда; в социально-историческом аспекте это бесклассовое общество; и, наконец, в социально-этическом смысле это общество, преодолевшее все формы отчуждения и антагонизмов между людьми; человек в коммунистическом обществе воспринимается исключительно как цель, а не средство.
Несмотря на формальный и крайне обобщенный характер этих критериев, именно они лежат в основе многолетней и основательной критики советского режима слева. Критика западными марксистами разных толков советских общественных отношений обобщена в объемной монографии голландского историка Марселя ван дер Линдена «Западный марксизм и Советский Союз». Ван дер Линден скрупулёзно описывает теории советских общественных отношений, разрабатывавшиеся с 1917 по 2005 гг. как значительными марксистскими теоретиками, так и малочисленными левыми сектами. По мнению ван дер Линдена, всё множество теоретических и политических работ, критиковавших советский режим слева, описывали советские общественные отношения и советское государство как: 1) государственный капитализм; 2) бюрократический коллективизм; и 3) деформированное (выродившееся) рабочее государство (теория Троцкого). Ван дер Линден завершает свою объемную книгу довольно убедительной критикой этих подходов, как с точки зрения ортодоксального марксизма, к которому все они апеллировали, так и с точки зрения логических допущений. Однако для наших целей важно отметить не состоятельность или несостоятельность этих теорий (многие из которых предлагают довольно проницательную критику советской системы), а тренд в прогрессивной левой мысли, настоятельно отказывающий советскому в связи с коммунизмом.
Описанные мной выше книги представляют две точки зрения на связь советского (и шире — реального социализма) и коммунистического. Первая, назовем ее условно либеральной, настаивает на бесспорном тождестве советского и коммунизма. Эта точка зрения представляет собой наиболее распространенную позицию в современных социальных науках и выражается, в том числе, в академической номенклатуре вроде «посткоммунистические (постсоциалистические) исследования». Отождествление советского и коммунизма — это не только историческая дескрипция, какой она хочет казаться, но и политическая установка. Конец Советского Союза одновременно знаменует собой конец коммунизма как политического проекта. Коммунизм теперь предстает только как исторический факт, как что-то, имеющее отношение к прошлому, обреченное на существование в актуальности только с приставкой «пост». Эпитеты, используемые для либеральных описаний советской системы, такие как «тоталитаризм», также автоматически переносятся на коммунизм. Коммунизм как политический проект обречен на тоталитарность и террор, чему самым ярким подтверждением является советская история.
Вторая позиция, представляющая левую критику советских общественных отношений, наоборот, отказывает советскому проекту в связи с коммунизмом. Этим отказом западные марксистские теоретики и активисты пытались противостоять как советским попыткам монополизировать коммунистический дискурс, так и либеральному стремлению лишить коммунистический проект исторической перспективы. В политической практике противодействие либеральному отождествлению коммунистического с советским привело к отказу от использования слова «коммунизм» для обозначения своей политической программы западноевропейскими и американскими прогрессивными левыми. Вместо коммунизма их политическим проектом стал демократический социализм. Именно демократическими социалистами называют себя оказавшиеся сегодня на политической авансцене в Великобритании и США ветераны левого движения Джереми Корбин и Берни Сандерз. Отказ от коммунизма в пользу демократического социализма должен был улучшить общественный имидж левых, вместе с коммунизмом отказывающихся от тоталитаризма и репрессий, с которыми он ассоциируется.
Постсоветские прогрессивные левые движутся в том же фарватере, что и их западные товарищи, прилагая серьезные усилия для доказательства несостоятельности тезиса о тождественности советского и коммунистического. В качестве примера подобной левой критики советского можно привести яркую книжку российского социолога А. Бикбова «Грамматика порядка», в которой автор убедительно показывает, как понятия «наука» и «личность», бывшие центральными для идеологической риторики 60-80-х, способствовали фактическому «обуржуазиванию» общественных отношений в позднем СССР.
В постсоветском контексте прогрессивные левые в выработке позиции в отношении советского учитывают не только его либеральную интерпретацию. Активная мобилизация памяти о советском официальной властью и разного рода «красно-коричневыми», которые выстраивают свою политическую идентичность на апроприации реакционных и репрессивных аспектов советской системы, также заставляют прогрессивных левых настаивать на том, что советское не может рассматриваться как коммунистическое.
Несмотря на радикально противоположные интерпретации связи советского с коммунистическим, предлагаемые либеральными и левыми исследователями, и те, и другие сходятся в одном: их мало интересует то, как связь между советским общественным строем и коммунизмом рассматривалась в самом Советском Союзе. Ван дер Линден специально обращает внимание читателей, что для своей монографии он отбирал авторов, которые в своих работах не учитывали советское идеологическое самопозиционирование и не рассматривали социальную структуру советского общества ни как социалистическую, ни как развивающуюся в сторону социализма.
2.
Я бы хотел подробнее остановиться на рассмотрении этого специфического подхода в исследованиях различных аспектов (не только отношения к коммунизму) советской действительности, — подхода, который можно определить как своего рода «презумпцию недоверия» к советскому идеологическому дискурсу и тем самоописаниям советской действительности, которые в этом дискурсе конструировались. Недоверие, безусловно, лежит в основе любого критического исследования и обладает эвристическим потенциалом. Но я тут имею в виду не критическое отношение к официальному дискурсу и, соответственно, тестирование идеологического самоописания путем сравнения его с опытом, повседневными практиками, статистикой и т. п., а как бы априорное исключение советской идеологической саморепрезентации, ее дисквалификацию как не заслуживающую серьезного исследовательского интереса. Всё, что советский дискурс сообщает нам о самом себе, не имеет никакого значения для понимания советской действительности, т. к. изначально является ложным, тенденциозным и не имеющим отношения к актуальной действительности. Я, конечно, утрирую, но, в целом, для огромного количества исследований и описаний советского собственно советские дискурсивные самоописания кажутся не только ложными или тенденциозными, но и лишенными всякой агентности, т. е. способности каким-то существенным образом деятельно участвовать в производстве советской действительности.
Прежде чем вернуться к дискуссии о советском как коммунистическом, я бы хотел рассмотреть, как подход, основанный на недоверии к советским самоописаниям, используется и критически пересматривается в контексте другой важной академической дискуссии — о советском как имперском. Этот пример позволит мне яснее продемонстрировать, что я понимаю под императивом «исследовать советское политически», а также поможет обозначить методологические контуры для дальнейшей дискуссии о советском как коммунистическом.
Как замечают многие исследователи, описание Советского Союза как империи в период его существования всегда было политически мотивировано и сообщало о консервативных и антисоветских взглядах автора. Между тем, в постсоветский период исследователи стали активно использовать метафору империи для описания Советского Союза, это определение утратило свои антисоветские коннотации и стало восприниматься как академически нейтральное. Дискуссия о том, к какому типу империи можно было бы отнести СССР, или представлял ли собой Советский Союз особый тип империи (например, «империю положительной деятельности» по Т. Мартину), стала очень важной составляющей академического дискурса о советском.
Эта академическая дискуссия контрастирует с тем, что сам себя Советский Союз как империю никогда не описывал. Более того, советские официальные самоописания в разные периоды включали существенный антиимпериалистический и антиколониальный текст. Однако метафорическое описание СССР как империи во многом полагается на «презумпцию недоверия» к самоописанию и не пытается это расхождение проблематизировать. Антиколониальная риторика советского официального дискурса могла быть очень далека от практики и опыта, которые можно описывать как колониальные, но была ли она лишена всякого значения (кроме того, как быть лицемерным идеологическим фоном) в производстве сложных социальных отношений в СССР? Можно ли описывать советское как имперское и при этом совершенно игнорировать самоописание советского государства как антиколониального в первые десятилетия после революции или в период послевоенной модернизации?
Американский историк Адиб Халид обратил внимание на то, что даже метафорическое описание СССР как империи продолжат нести в себе политическое сообщение. Халид замечает, что антиколониальные освободительные движения, которые во многом определили XX век для большей части жителей Земли, видели в Советском Союзе источник вдохновения и модель выстраивания социальных отношений. Поэтому интерпретация советских социальных отношений как имперских (или колониальных) представляется, по его мнению, не просто искаженным пониманием содержания антиколониальной борьбы XX в., но и идеологическим императивом, направленным против любых попыток радикальных изменений, осуществляемых в универсалистском ключе и бросающих вызов традиции [5] . Иными словами, интерпретировать антиимпериалистическую борьбу (которая была важным содержанием Октябрьской революции и советской национальной политики) как всего лишь новую вариацию империализма, подспудно означает ставить под сомнение смысл борьбы как таковой.
Халид относится к той группе исследователей, которая подвергает пересмотру устоявшуюся «презумпцию недоверия» к советским самоописаниям. В центре исследовательского интереса Халида находится сложная и противоречивая динамика между официальным советским самопозиционированием, восприятием этого позиционирования различными акторами внутри советского общества и опытом советской национальной политики в Средней Азии. В своих работах Халид показывает, как антиимпериалистическая позиция большевиков еще до революции привлекла на их сторону среднеазиатских прогрессистских мыслителей (джадидов), и как уже послереволюционная национальная политика, основанная на принципе «позитивной дискриминации» бывших колонизированных народов, была активно апроприирована джадидами и позволила им стать основными субъектами в процессе создания советского Узбекистана.
Рассмотрим еще один пример отхода от «презумпции недоверия» к советскому идеологическому дискурсу. Исследователь советской послевоенной модернизации в Средней Азии Артемий Калиновский обращает внимание на то, как уже в позднем СССР советская антиимпериалистическая риторика, актуализированная международной антиколониальной борьбой, активно поддерживавшейся Советским Союзом, использовалась среднеазиатскими партийными руководителями в лоббировании социально-экономического развития своих республик. Необходимость строительства крупных промышленных объектов или развития определенной социальной инфраструктуры мотивировалась в том числе апелляциями к антиколониальному характеру советского государства. Отсутствие же необходимой инфраструктуры как бы свидетельствовало об обратном, поэтому в подобных дискуссиях вполне можно было встретить такой эмоциональный аргумент, как «Мы же не какая-то британская колония в Африке…». Причем это активное апеллирование к антиколониальной повестке в процессах развития обнаруживалось на всех уровнях советского общества, в том числе и на «низовых». Калиновский приводит пример из истории строительства Нурекской ГЭС в Таджикистане в 1960-е. Вместе с электростанцией строился город для энергетиков, с передовой по тем временам инфраструктурой. Жителями города должны были быть гидростроители и энергетики, преимущественно приезжие из других регионов СССР специалисты. В планы и смету строительства ГЭС при этом не входило развитие близлежащих кишлаков. Это вызывало критику, которая указывала на схожесть плана развития города Нурека с типическими колониальными примерами, когда в городе для приезжего населения созданы все необходимые бытовые и социальные условия, а местные жители не имеют доступа к водопроводу и канализации. Общественным лидерам окрестных кишлаков удалось провести несколько встреч с руководителями строительства, включая министра энергетики СССР, и донести до них свою критику. Смета и план развития города в итоге были скорректированы таким образом, чтобы жители ближайших кишлаков смогли получить доступ к современной социальной инфраструктуре, а в городском развитии было предусмотрено строительство промышленных объектов (кроме ГЭС), которые могли бы обеспечить работой жительниц кишлаков (текстильная фабрика).
Эти примеры демонстрируют, что советская национальная политика и антиколониальная риторика не сводились к функции идеологической ширмы, за которой происходило что-то совершенно противоположное, а выступали важнейшими факторами производства советской действительности в Средней Азии. Говоря о «презумпции недоверия» к советским самоописаниям, я не предлагаю сменить ее на «презумпцию доверия». Скорее, речь идет о том, что по-английски называется the benefit of the doubt — условное доверие, доверие, оказываемое до тех пор, пока не будет доказано, что доверять не следует. Речь идет о том, чтобы не исключать самоописания, а учитывать их как важный фактор, наделенный агентностью в производстве советской действительности.
Исследовательская задача при подобном подходе заключается не в том, чтобы подтвердить и утвердить верность идеологических самоописаний, а в том, чтобы описать, прояснить и концептуализировать то, какое значение имели эти самоописания в производстве сложной и противоречивой советской действительности. Приведенные выше примеры вряд ли позволят нам сделать однозначный вывод об антиимперском характере СССР и, соответственно, о неадекватности его описания как империи. В то же время эти примеры демонстрируют нам, что советское антиимперское самопозиционирование не было лишь фрагментом официального дискурса, а имело корреляты в политической практике и повседневном опыте советских людей. Сергей Абашин в контексте дискуссии о советском как колониальном предложил такую концептуальную формулировку: советское включало в себя колониальное, но советское нельзя свести к колониальному. Справедливым будет и обратное утверждение: советское включало в себя антиколониальный аспект, но вряд ли может быть к нему сведено. Подобная концептуализация, указывающая на невозможность какого-то однозначного, тотального и исчерпывающего описания, отсылающая к множественности и противоречивости, кому-то, а может и многим, покажется тупиковой и слишком постмодернистской.
Между тем, попытка рассматривать советскую действительность как фрагментированную и множественную мне представляется способом исследовать советское политически. При таком подходе мы не только избегаем тотальных обобщений, но и получаем возможность рассматривать отдельные фрагменты советской действительности, опыты и практики не только в исторической перспективе, но и в политической, оценивая их прогрессивный/реакционный потенциал для актуальной политики. Такой подход к интерпретации социальной истории разрабатывал Э. Блох, полагавший, что каждый фрагмент действительности содержит в себе элемент предвосхищения, революционный и прогрессивный потенциал. Однако для того, чтобы эти элементы предвосхищения идентифицировать, необходимо приложить интенциональные аналитические усилия, или, языком Блоха, проявить «активно-партийную позицию в пользу пробивающего себе дорогу добра». Идентификация советских антиколониальных практик не отвергает наличия практик колониальных и репрессивных. В исторической ретроспективе можно зафиксировать и те, и другие, но антиколониальный опыт можно также использовать для выработки современной постколониальной критики и политики на постсоветском пространстве, реализовывая тем самым заложенный в них прогрессивный потенциал.
3.
Тут я бы хотел вернуться к обсуждению связи коммунизма и советского и наконец-то прояснить, как объяснялась связь между советскими общественными отношениями и коммунизмом официальным советским дискурсом. Советский строй никогда не называл себя коммунизмом (вопреки либеральной интерпретации), но официальная риторика утверждала о непрерывном «строительстве коммунизма» (вопреки левой критике), которое и наделяло смыслом реальные советские достижения, неудачи и лишения. Коммунизм в советском дискурсе относился не к настоящему, а к будущему, иногда и не столь отдаленному. В период хрущевской оттепели официальная идеология заявляла, что уже «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» и даже назначала дату наступления этого «светлого будущего» — 1980 год. Таким образом, в советском дискурсе коммунизм представал как идея, горизонт и обещание, получая своеобразное утопическое измерение. Не в смысле утопии как невозможного идеала, но как проекта будущего и его предвосхищения. Советские люди жили ожиданием коммунизма, во всяком случае, согласно официальному дискурсу. Коммунизм был программным идеологическим обещанием.
Вопрос, который мне хотелось бы в связи с этим сформулировать, — находило ли это идеологическое обещание корреляты в насущной действительности? Вызывало ли оно какие-то отклики в жизненных практиках и опыте советских людей? Ниже я предложу обзор некоторых советских практик и опытов, которые, наверное, можно определить как коммунистические обещания, так как при внимательном рассмотрении они обнаруживают свойства, которые, как нам представляется, будут присущи коммунистическому общественному устройству. В этих практиках мы можем определить если не конкретные образы коммунистического будущего, то хотя бы его предпосылки. Формулировки вроде «строительства коммунизма» или «светлого будущего» сегодня вызывают у нас улыбку и ассоциируется с анекдотами. Нам сложно представить, что кто-то когда-то мог всерьез воспринимать себя «строителем коммунизма» и верить в наступление «светлого будущего». Однако, как было замечено выше, редакторы-составители «Оксфордского справочника по истории коммунизма», основываясь на архивных источниках, не ставят под сомнение искреннюю убежденность партийных деятелей в том, что их действия были направлены на построение коммунизма. Не стоит также преувеличивать недоверие к идеологическим формулировкам со стороны общества. Представление о тотально ироничном, если не циничном отношении советских людей к идеологическому дискурсу транслируется нами на советское время ретроспективно из наших постсоветских реалий. А. Юрчак, ссылаясь на исследования П. Серио, показывает, что «ощущение того, что советский язык будто бы делится на «их язык» (язык власти, тоталитарный язык) и «наш язык» (язык простых людей, свободный язык), в советский период отсутствовало, а распространилось именно в перестройку или постперестроечные годы». Это становится очевидным при сравнении перестроечных и постсоветских воспоминаний и комментариев о советском прошлом с документами, создававшимися в собственно советские годы (дневниками, письмами).
Обращая внимание на важность утопической составляющей для марксистской теории, Э. Блох заметил, что «Революции осуществляют древнейшие надежды человечества — именно поэтому они предполагают, требуют все более точной конкретизации того, что понимается под царством свободы, и открытого пути туда». Тут стоит заметить, что внутри марксистской теории существует неоднозначное отношение к коммунизму как объекту воображения, фантазии и планирования. На этот случай есть ритуальная цитата из Маркса: «Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние».
Между тем Октябрьская революция действительно дала толчок для производства огромного количества утопических проектов и видений коммунистического будущего, предлагавших самые разные его «точные конкретизации». Югославский литературовед Дарко Савин обратил внимание на то, что в первое революционное десятилетие, с 1920 по 1930, в Советском Союзе в среднем выходило 25 научно-фантастических книг в год. В 1927 году, знаменующем начало т. н. «культурной революции», было издано 47 книг. Однако уже в 1931 году вышло 4 книги, а в 1933 и 1934 всего по одной. Спад в издании научно-фантастической литературы, бывшей на передовой производства «точных конкретизаций» коммунизма, совпадает с резким изменением в идеологическом дискурсе. В 1930 году выходит партийное постановление «О работе по перестройке быта», в котором далеко не фантастические, а вполне научные разработки по социалистическому переустройству быта и организации социальной жизни были названы «вредными, утопическими начинаниями». На этом примере мы видим более чем прямую корреляцию между идеологическим коммунистическим обещанием революции и откликом на него в обществе. Отклик этот включал не только научную фантастику, но и искусство, архитектуру, урбанистику и радикальные планы по переустройству быта и гендерных отношений. Но эта корреляция послереволюционного периода, хотя и показательна, все же довольно очевидна. Обратимся к менее очевидным обещаниям коммунистического будущего, которые также можно идентифицировать в советской действительности.
Центральным понятием Блоха является «конкретная утопия». Конкретную утопию он противопоставлял «абстрактной утопии», или утопизму — мечтательству и витанию в облаках. Конкретная утопия это не что-то заведомо неосуществимое, а реальная возможность, ждущая своего воплощения. Главным свойством конкретной утопии является то, что она «имеет коррелят в процессуальной действительности: это опосредование нового». Будущее всегда является нам в обертке настоящего. Схожее с блоховским представление об имманентном присутствии будущего в настоящем и прошлом мы находим у другого марксистского философа В. Беньямина. Для иллюстрации своей концепции «диалектического образа», в котором экстракт будущего так же всегда опосредован образами прошлого и настоящего, Беньямин обращает внимание на то, что первые железнодорожные вокзалы, т. е. одни из самых современных архитектурных сооружений своего времени, возводились в стилистике швейцарских вилл, а торговые пассажи, построенные из самых современных материалов — стекла и металла, из которых через столетие будут строить модернистские небоскребы, — стилистически имитировали помпезные классицистские и барочные дворцы.
Схожим образом мерцания коммунистического будущего в практиках настоящего пытался рассмотреть Л. Троцкий, заметив, что «заводские стенные газеты представляют собой необходимую, хотя еще и очень отдаленную предпосылку будущей литературы». Коммунистическая литература вряд ли будет похожа на заводские стенгазеты, но такие их свойства, как доступность, массовость, смычка с производственным процессом и отсутствие принципиального разделения на авторов и читателей, с необходимостью будут ей присущи.
Перенесемся в т. н. поздний социализм. Период «оттепели», дискурсивно отмеченный «развенчанием культа личности» и «возвращением к ленинским нормам», во многом актуализировал риторику и образность 20-х. Наиболее ярко это «возвращение» являло себя в архитектуре и монументальном искусстве. Однако результаты этого возвращения, несмотря на их связь с революционным пафосом, не кажутся безусловными образами коммунистического проекта. Монументальная мозаика, покрывшая фасады и торцы десятков тысяч зданий по всему Советскому Союзу, во многом стала реализацией авангардных интенций 20-х годов, грезивших о массовом пролетарском искусстве. Позднесоветский проект монументального искусства наследовал ленинскому плану «монументальной пропаганды», который в свою очередь был вдохновлен утопическим «ГородомСолнце» Кампанеллы и задумывался как своего рода «конкретизация царства свободы». Предполагалось, что искусство заполнит улицы городов. Практически эта мечта оказалась реализованной в позднесоветский период, но главной техникой этого массового искусства стала смальтовая мозаика, известная с античности. Как замечает О. Шаталова, «После войны СССР стал мыслиться необратимым, как царство христово, и для утверждения его иконографии была выбрана «вечная» церковная техника — солнце- и морозоустойчивая мозаика. Ее эстетические свойства — яркость, блеск — тоже шли на пользу грядущей славе». И все же, как и стенные газеты 20-х, позднесоветская монументальная мозаика являет нам свойства, которые мы можем ассоциировать с коммунистическим будущим. Мозаики создавались бригадным методом, т. е. это коллективное, а не индивидуальное искусство. Расположенные на торцах и фасадах общественных заданий, несмотря на церковную технику, мозаики настолько же избавлены от всякой «ауры», как и рекламный баннер. Ну и последнее: монументальную мозаику, в отличие от картин, инсталляций и даже документации перформансов, невозможно продать на рынке. Мозаики принадлежат одновременно всем и никому конкретно. Таким образом, в монументальной мозаике мы можем идентифицировать обещания коммунистического искусства, опосредованные причудливым сочетанием модернистской пропаганды и античного храмового убранства.
Приведу еще один пример коммунистического обещания, воплощенного в художественной форме. Этот пример не советский, но имеющий отношение к интернациональной дискуссии о социалистическом искусстве. Одним из последних аккордов этой дискуссии стал культовый текст американского арт-критика К. Гринберга «Авангард и китч» (1939), опубликованный в нью-йоркском троцкистском журнале «Partisan Review». В своем тексте Гринберг предлагает марксистское политэкономическое прочтение двух культурных форм — авангарда (абстрактного искусства, искусства для искусства) и китча (массовой культуры). Производство и восприятие живописного авангарда или авангардистской поэзии, в которых авторы решают сложные формальные аналитические задачи, обеспечивается определенным политэкономическим базисом — не только наличием соответствующего образования, но и досугом, отсутствием необходимости отвлекаться на тяжелый труд, обеспеченностью базовых потребностей. В условиях капитализма такое искусство может быть только элитарным, доступным немногим. Крестьянские же и рабочие массы делают выбор в пользу китча — более простой для восприятия культурной формы, т. к. в ней аналитический пласт заменен синтетическим — зритель соотносит себя не с формальной задачей, решаемой автором, а с готовым образом, отсылающим к его жизненному опыту (в живописном пейзаже узнает виденный ранее ландшафт). Как замечает Гринберг, «…реальность в России, да и в других местах такова, что крестьянин вскоре осознает, что необходимость ежедневного каторжного труда и суровые, лишенные комфорта условия его жизни не оставляют ему досуга, сил и комфорта, необходимых для того, чтобы воспитать в себе навыки наслаждаться Пикассо».
По Гринбергу само разделение современной ему культуры на авангард и китч — не столько эстетическая, сколько социально-экономическая проблема, т. к. это разделение является лишь выражением классового деления: «разрыв этот соответствует социальному разрыву, всегда существовавшему в формальной культуре, как и в других сферах жизни цивилизованного общества. На одной стороне постоянно находится меньшинство властвующих (и потому культурных), на другой — огромная масса эксплуатируемых и бедных (следовательно, невежественных). Формальная культура всегда принадлежала первым, тогда как вторые должны были довольствоваться народной или рудиментарной культурой — или китчем».
Абстрактность, отвлеченность от эмпирики окружающей действительности, собственно его автономия, определяются Гринбергом как политически заряженные характеристики авангарда, т. к. именно они содержат в себе обещания будущего искусства, которое в условиях социализма, безусловно, будет массовым и доступным всем. Как замечает Гринберг, «…ни одна культура не может развиваться без социальной основы, без источника стабильных доходов. Авангарду же этот источник доходов обеспечивала элита того самого общества, от которого авангард, по его собственному утверждению, отстранился, но к которому он всегда оставался привязан золотой пуповиной. Это действительно парадокс».
Отталкиваясь от мысли, что люди при коммунизме будут тратить гораздо больше своего времени на решение абстрактных задач, а не на удовлетворение базовых и повседневных нужд, я хочу предложить еще один пример коммунистического обещания. Это обещание содержится не в какой-то конкретной культурной форме или практике, а оказывается имманентным общественным отношениям позднего советского социализма, которые А. Юрчак охарактеризовал как вненаходимость.
В своей работе Юрчак не просто учитывает советский идеологический дискурс как важный фактор для понимания советской действительности, а разрабатывает теорию позднесоветских общественных отношений, основанную на особенностях функционирования советского идеологического дискурса. В своей книге «Это было навсегда пока не кончилось. Последнее советское поколение» А. Юрчак приводит обширную этнографию, иллюстрирующую центральное понятие, с помощью которого он описывает действительность позднего социализма — вненаходимость. Согласно Юрчаку, подавляющее большинство советских людей соотносили себя с официальным идеологическим дискурсом лишь на уровне формы или ритуала, в то время как буквальный смысл идеологических императивов большинством всерьез не воспринимался. Формальное участие советских граждан в предписываемых системой ритуалах, скажем, комсомольских собраниях или демонстрациях, открывало для них доступ ко времени и ресурсам для ведения «нормальной» жизни, т. е. осуществления той деятельности, которая государством не контролировалась. Наиболее яркое проявление отношений вненаходимости это т. н. «поколение дворников и сторожей». Цитата: «… закон об обязательном трудоустройстве исполнялся исключительно на уровне формы, а его констатирующий смысл изменялся до неузнаваемости (всеобщая обязательная профессиональная занятость подменялась на легальную минимизацию занятости), в результате чего появлялась возможность для формирования новых сообществ, видов знания, интересов, творческих занятий, способов организации времени и так далее. Можно было заниматься изучением древних языков или рок-музыкой, опять-таки без государственно признанного статуса. Работа в котельной удовлетворяла закону об обязательном трудоустройстве, при этом обеспечивая минимальный доход и максимальное свободное время для занятий теми же литературой или музыкой».
Отношения вненаходимости, однако, не обязательно предполагали институциональную маргинализацию. В подобных отношениях находились и прочно интегрированные в советскую государственную и идеологическую систему комсомольские секретари, сотрудники НИИ и т. п. Как поясняет Юрчак, положение вненаходимости по отношению к официальному дискурсу выражалось в воспроизводстве его авторитетных форм с изменением их смысла. Причем изменение смысла не только не обязательно, но и чаще всего не означало изменение на противоположный декларируемому. Так, в связи с активностью различных тематических кружков и практиковавшихся внутри них отношений, Юрчак замечает: «подобный образ жизни и вид социальности стал возможен благодаря парадоксальной культурной политике советского государства — благодаря вниманию, которое государство уделяло образовательной системе, а также благодаря постоянно повторяющимся в государственной риторике тезисам о важности высокой культуры, коллективизма и нематериальных ценностей. Этика, лежащая в основе подобных нематериальных отношений, взглядов и оценок, возникла не в пику официально заявленным ценностям социалистического государства, а, напротив, благодаря существованию этих ценностей, благодаря их постоянной циркуляции в высказываниях государства. Кроме того, она была возможна благодаря экономической системе, в которой государство поддерживало всевозможные внешкольные организации, включая подобные кружки, и брало на себя обеспечение базового минимума жизненных нужд, о которых можно было почти не заботиться». Таким образом, советское государство выступало как экономическим, так и идеологическим спонсором активности, которую оно не предполагало и не контролировало.
Важным дискурсивным маркером вненаходимости было нарочитое отсутствие интереса не только к советской политике, но и к советской действительности как таковой. Пространственно и темпорально интересы находящихся в отношениях вненаходимости советских людей были ориентированы на сферы и деятельность, максимально от советских реалий отдаленные. Они интересовались античной историей и иностранной литературой, досоветской архитектурой и поэзией Серебряного века, теоретической физикой и ботаникой, археологией и западной рок-музыкой, буддистской философией и православной религией, туристскими походами и альпинизмом. В одном из интервью бишкекский архитектор, учившийся во Фрунзенском политехе в 70-е, на вопрос, на какой опыт из современной ему советской архитектуры он ориентировался, ответил: «Мы современным советским не увлекались». Увлекались архитектурным авангардом 20-х и западной архитектурой.
Отсутствие интереса к советской действительности и, в особенности, к актуальной политике объяснялось увлеченностью более важными и сущностными проблемами. Юрчак приводит слова советского рок-музыканта: «нас интересуют общечеловеческие проблемы, не зависящие от той или иной системы или от того или иного времени. Они как существовали тысячу лет назад, так и продолжают существовать сегодня. Это отношения между людьми, связь между человеком и природой и т. д.»
Юрчак делает неоднократные оговорки, что вненаходимость не стоит воспринимать как форму аполитичности. Наоборот, для него вненаходимость — это форма политики, преодолевающей бинарное понимание политического в позднем СССР, где политика могла быть либо советской и совпадать с «линией партии», либо антисоветской, диссидентской. Вненаходимость политична, а не аполитична, несмотря на отсутствие интереса к актуальной политике, потому что деятельность, осуществляемая в режиме вненаходимости, пусть и ненамеренно, носила субверсивный характер по отношению к советской системе. Соглашаясь, в общем-то, с Юрчаком, мне бы все же хотелось несколько уточнить или скорее радикализовать его понимание вненаходимости. Мне кажется, что подобный модус существования, в особенности это самое «абстрагирование» от советской действительности можно рассматривать как коммунистическое обещание, в том смысле, что, как мы все прекрасно понимаем, коммунистический субъект — это не политический активист. С нашей точки зрения его существование покажется безусловно аполитичным, так как он будет существовать вне известных нам противоречий. В бесклассовом обществе все материальные потребности субъекта будут удовлетворены, а его деятельность будет представлять собой свободное, ничем не ограниченное творчество, скорее всего, направленное на решение задач, максимально отдаленных от того, что нам кажется насущным и важным сегодня.
4.
С конца 2000-х на фоне глобального экономического кризиса в прогрессивном левом дискурсе происходит реабилитация коммунизма в качестве имени проекта эмансипации. Публичные левые интеллектуалы и популярные философы вроде С. Жижека и А. Бадью настаивают на том, что левый освободительный проект это только коммунистический проект, и не стоит это скрывать за эвфемизмами вроде демократического социализма. Можно вспомнить жижековское: «Я — не социалист, каждый идиот может быть социалистом, даже Гитлер был социалистом. Я — коммунист». Однако это возвращение коммунизма в общественное поле происходит под знаком «другого коммунизма», коммунизма, порвавшего с опытом XX в. и ничего общего с ним не имеющего. Для современных левых авторов устоявшийся левый консенсус, что советское не имеет никакого отношения к коммунизму, продолжает оставаться актуальным и, более того, лежит в основе идеи «коммунизма XXI века».
Коммунизм XXI века (или XXII-го) действительно вряд ли будет даже отдаленно напоминать наполненную метафизическими исканиями жизнь советских интеллигентов, так же как коммунистическое искусство будет мало похоже на стенгазеты, монументальные мозаики и абстрактную живопись, даже если все их соединить каким-то причудливым образом вместе. Однако сама возможность коммунизма как проекта будущего во многом зависит от того, как мы понимаем его прошлое. Поэтому отрицание какой-либо прогрессивной составляющей в советском проекте западными левыми интеллектуалами, на мой взгляд, содержит некоторую проблему. Возможно, не до конца осмысленную, и даже четко артикулированную. А именно: тотальное отрицание связи советского с коммунистическим как образом будущего во многом воспроизводит неоколониальную капиталистическую логику, обесценивающую советский и социалистический опыт стран Восточной Европы как ошибочный, девиантный по отношению к магистральному западному капитализму, а потому постсоциалистическим странам и субъектам предписывается этот опыт преодолеть, пройдя т. н. «переходный этап». В этом смысле прогрессивные левые мало отличаются от неолибералов и консерваторов.
Идентификация коммунистических обещаний внутри советской действительности не означает, что сама эта действительность была коммунистической. Утопически заряженные опыты и практики не свойственны исключительно реальному социализму, вспомним хотя бы гринберговское понимание авангарда. Однако взгляд на советскую историю как на множество опытов и практик, содержащих в себе обещание радикально иного общественного устройства, не позволяет прийти и к тотально обобщенным выводам о провальности советского проекта и коммунизма как идеи. Советский эксперимент со всеми его успехами и трагедиями — не больше, но и не меньше, чем этап на пути человечества к царству свободы, но а дорогу осилит идущий.
18.07.2021
↑