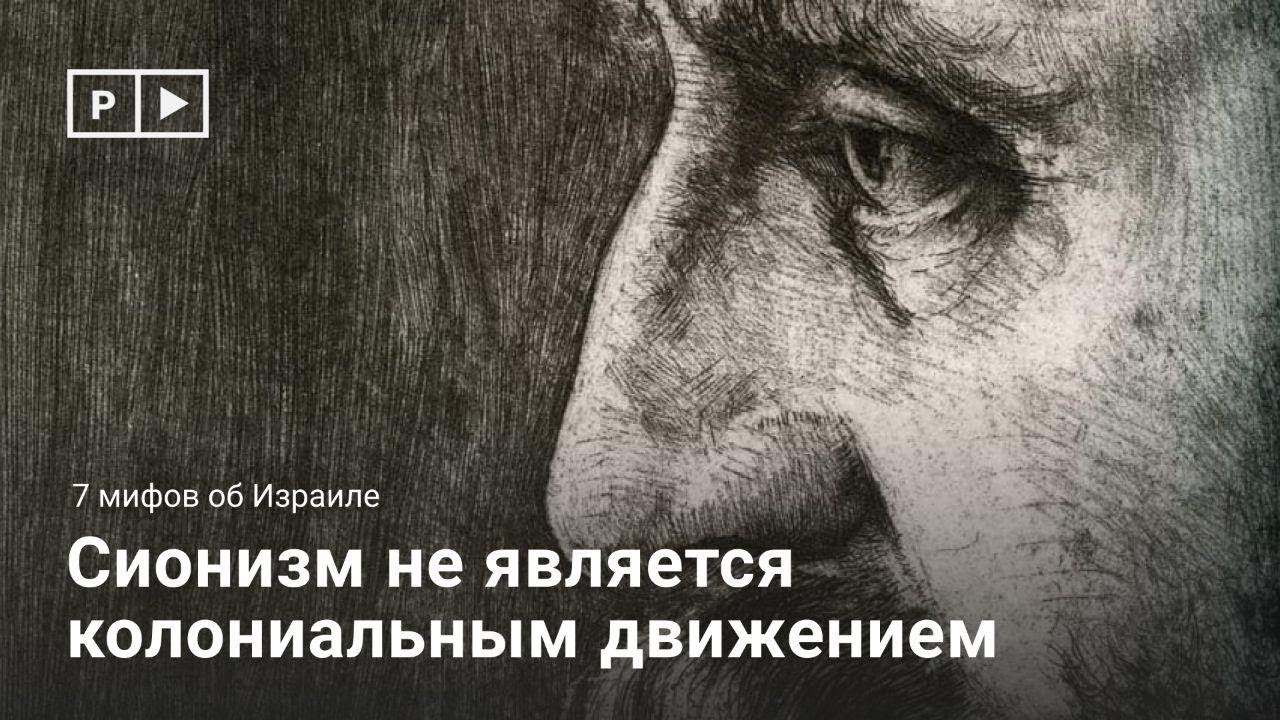Оригинал статьи был первоначально опубликован на сайте Ревкульт
В нашем фильме представлена краткая история палестино-израильского конфликта — от происхождения сионистского движения и основания государства Израиль до первой интифады и недавних бомбардировок сектора Газа. Мы не стремимся занять «золотую середину» в этой истории, спрятаться за ширмой «объективности и нейтральности», быть над схваткой. Мы не скрываем своего неприятия сионизма и проводим эту критику последовательно, т.е., разоблачая сионизм как форму буржуазной идеологии, которой удалось победить лишь благодаря сотрудничеству богатейших кругов еврейской диаспоры и арабских лендлордов.
В фильме используются как источники самих сионистов, так и исследования Новых историков (Илан Паппе, Том Сегев и др.), оспаривающих израильскую историографию.
Недавно Израилю исполнился 71 год. За прошедшие семь десятилетий история еврейского государства обросла немалым количеством мифов, которые являются серьёзным препятствием для достижения мира между двумя народами. Перед вами — 7 наиболее распространённых мифов о государстве Израиль.
Миф первый. Палестина была пустующей землей.
Оглавление
- Миф первый. Палестина была пустующей землей.
- Миф второй: «Сионизм не является колониальным движением»
- Миф третий: «Палестинцы добровольно покинули свои дома в 1948 году»
- Миф четвёртый: «Шестидневная война была превентивным ударом»
- Миф пятый: «Израиль — единственная демократия на Ближнем Востоке»
- Миф шестой: «Агрессия против Газы является вынужденной мерой»
- Миф седьмой: «Террор — единственная цель палестинского сопротивления»
Данный миф зародился на первых этапах сионистского движения в Палестине. Однако особое распространение он получил на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого столетия, во время роста палестинского сопротивления на оккупированных территориях и накала страстей на Ближнем Востоке в целом. Была ли Палестина пустующей землей до массовой иммиграции евреев в конце 19 века? Согласно переписи населения Османской Империи, на рубеже 19 и 20 веков Палестина была довольно плотно населённым регионом, особенно в сельской местности. Ближе к концу 19 века область, ставшая спустя пару десятков лет подмандатной Палестиной, состояла из двух административных единиц: Иерусалимского санджака и вилайета Бейрут. Востоковед Джастин МакКарти, специализирующийся на истории Османской Империи пишет, что в начале 19 века, за десятилетия до первой еврейской алии, население Палестины составляло порядка 350 тысяч жителей. К началу Первой Мировой войны оно возросло до 800 тысяч, среди которых 657 тысяч были арабами-мусульманами, 81 тысяча — арабами-христианами, и 59 тысяч — евреями.
Похожие цифры приводит израильский демограф — Серджио Делла Пергола. 1800 год — население Палестины: 275 тысяч человек, из которых 246 тысяч — мусульмане, 22 тысячи — христиане и 7 тысяч — евреи. 1914 год — население Палестины: 689 тысяч, из которых 525 тысяч — мусульмане, 70 тысяч — христиане и 94 тысячи — евреи.
А вот что пишет в одной из своих работ израильский историк, преподаватель университета Бен-Гуриона в Негеве — Йонатан Мендель:
«Точный процент евреев среди палестинского населения до возникновения сионизма неизвестен. Однако цифра, вероятно, колеблется от 2 до 5 процентов. Согласно отчётам времён Османской Империи, в 1878 году на территории современного Израиля и Палестины проживало 462 тысячи человек. Из их числа 403 тысячи были мусульманами, 43 тысячи — христианами и 15 тысяч — евреями».
Помимо прочего, сохранилась уйма разного рода фото и киноматериалов более чем столетней давности, подтверждающих наличие местного палестинского населения. Как видно по многим из них, на стыке 19 и 20 веков Палестина представляла собой отсталый в экономическом плане полуфеодальный регион. Большинство населения составляли бедные крестьяне, работавшие на землях арабских помещиков, многие из которых проживали за пределами Палестины.
Промышленность в регионе только-только становилась на ноги, и средняя занятость на мелких предприятиях не превышала десяти-пятнадцати человек.
Также, нашими помощниками в разоблачении сионистских мифов выступят… сами сионисты. Можно, например, упомянуть данные Шабтая Тевета — официального биографа Давида Бен Гуриона. Первый премьер-министр Израиля ровно за тридцать лет до основания государства произнёс следующее:
«Эрец-Израэль — не пустующая земля… К западу от реки Иордан проживают порядка трёх четвертей миллиона людей, и мы ни в коем случае не должны ущемлять права местных жителей».
То был ранний Бен-Гурион, читавший классиков марксизма и симпатизирующий октябрьской революции в России… Но время идёт, а люди меняются. Так что не удивляйтесь, когда в разборе следующих мифов встретите Бен-Гуриона, изрыгающего циничные, шовинистические лозунги в духе американских южан-рабовладельцев. Но обо всём по порядку.
Английский писатель и сторонник сионистского движения — Израэль Зангвиль был автором знаменитой фразы, в которой он охарактеризовал Палестину как «землю без народа для народа без земли». Он опубликовал её в ежемесячной газете «Нью Либерал Ревью» в 1901 году. Однако спустя пару лет, отправившись в Палестину и осознав всю нелепость сказанного, он заявил перед публикой в Манчестере:
«В самой Палестине уже имеется население. Иерусалимский пашалык уже вдвое более густонаселён, чем Соединённые Штаты, на квадратную милю приходится 52 души, даже четверть из которых не являются евреями…».
В дальнейшем Зангвиль со скептицизмом отнёсся к колониальному проекту в Палестине и начал выступать за создание еврейского государства в Уганде.
В 1925 году германский сионист Роберт Вельтч оставил следующую запись в газете «Йудише рундшау»:
«Мы, возможно, и являемся народом без земли. Однако не существует никакой земли без народа. Нынешняя Палестина уже имеет население в 700 тысяч человек».
И напоследок. Представитель правого лагеря в сионистском движении, считавший сионизм расовой принадлежностью, а не идеологией, Владимир Жаботинский, в двадцатых годах заявил:
«Если вы хотите колонизировать землю, на которой уже проживает другой народ, вам необходимо иметь гарнизон для охраны земли или найти спонсора, который предоставит вам этот гарнизон. Или же вам придётся отказаться от колонизации земли, поскольку без вооружённой силы, что предотвратит любую попытку препятствовать этой колонизации, она невозможна…»
Теперь перейдём ко второй части мифа. Звучит она примерно следующим образом: «Если бы не усердие и трудолюбие сионистов, Палестина так бы и оставалась не вспаханным и бесполезным участком пустыни».
Стоит заметить, что похожие аргументы использовали практически все колониальные движения, посылавшие своих поселенцев на другие континенты. Патологическая неприязнь к коренному населению и обвинение их в лени, неработоспособности и культурной отсталости — это характерные черты колониальной идеологии.
Однако, переходя от голословных замечаний к историческим фактам, мы увидим, что до 1948 года палестинские фермы были весьма продуктивны, а палестинские крестьяне, как и еврейские поселенцы, вполне успешно обрабатывали землю. Доклад Организации Объединенных Наций от 1946 года, посвящённый сельскому хозяйству Палестины, констатировал, что выращиваемые палестинцами сельскохозяйственные культуры составляли порядка 80% от общего урожая страны, где палестинскими фермерами было выращено 193 тысячи тонн хлебных злаков, 189 тысяч тонн овощей, 73 тысячи тонн фруктов и 78 тысяч тонн оливок.
Довольно неплохо для обленившихся туземцев, не так ли? Можем спуститься по исторической лестнице на полвека вниз.
В книге «Сельскохозяйственный экспорт с юга Палестины 1885-1914 годов» историк Марван Бихейри приводит факт: в 1893 году британский консул сообщил своему правительству о ценности импорта палестинских деревьев с целью улучшения производства в Австралии и Южной Африке. А немецкий ориенталист Александр Шольх, специализировавшийся на истории Палестины, указывает в своей работе «Палестина в переходном периоде», что в промежутке между 1856 и 1882 годами:
«Палестина производила относительно большие сельскохозяйственные излишки, которые впоследствии продавались в соседних странах — Египте и Ливане — и всё чаще шли на продажу в Европу».
Миф о том, что Палестина была незаселённой землёй, служит как минимум двум целям. Во- первых, он занижает масштаб катастрофы сорок восьмого года, о которой мы расскажем в одной из следующих глав. Ведь, если страна до начала сионистской колонизации была практически безлюдной пустыней, то о каких ещё сотнях тысяч беженцев может идти речь? Во-вторых, данный миф намекает на то, что именно еврейские поселенцы — первопроходцы сионистского движения — были наиболее эффективны в культивировании палестинской земли. Из этого следует, что у них есть больше оснований претендовать на эти земли, чем у ленивых и не предприимчивых арабов. Стоит отметить, что эти воззрения всерьёз укоренились как в стенах израильских и североамериканских учебных заведений, так и в умах интересующихся историей Ближнего Востока людей, а потому заслуживают внимания.
Миф второй: «Сионизм не является колониальным движением»
Стоит уточнить, что сионизм является не колониальным, а поселенчески-колониальным движением. Это два разных явления. Поселенческий колониализм стремится заселить выбранную территорию и постепенно заменить коренное население новым обществом поселенцев. В то время как колониализм классический после военного вторжения и завоевания территории довольствуется выкачиванием ресурсов из колонии и сверхэксплуатацией труда местного населения.
Зародившись в конце 19 века, политический сионизм испытал на себе влияние других националистических движений западной и восточной Европы. Однако было важное отличие. Практически все европейские националистические движения, боровшиеся за независимость, составляли национальное большинство на месте их проживания. В то время как евреи, жившие в европейских странах, были рассеяны среди нееврейского большинства.
Данный исторический факт не позволил еврейскому национализму стать аналогом национализма восточноевропейских народов, выступавших в те времена за создание собственных государств на территориях, где они проживали. В связи с этим еврейский национализм принял поселенчески- колониальный характер. Постепенно он превратился в движение, целью которого было найти наиболее подходящую территорию за пределами восточной Европы и организовать туда массовую иммиграцию.
Сионистская колонизация земель в Палестине началась в далёком 1882 году, во времена первой алии. Несмотря на финансовую поддержку еврейских магнатов, таких как барон Эдмон де Ротшильд, первопроходцы поселенческого движения испытывали серьёзные трудности в ирригационных делах, гибли от малярии и прочих заболеваний. Первая алия длилась около двух десятилетий, в это время в Палестину прибыло около 30 тысяч еврейских поселенцев, были основаны первые еврейские города, строились еврейские больницы и детские сады.
Теперь же обратимся к первоисточникам сионистской литературы. 12 июня 1895 года в своём личном дневнике основатель сионистского движения Теодор Герцль писал:
«Частная земля на отведённых для нас территориях должна быть изъята у её владельцев, а бедные жители — эвакуированы через границу сразу после того, как им будет обеспечена работа на месте их назначения. Но им должно быть отказано в праве на работу в нашей стране. Что же касается крупных собственников, то они, в конечном итоге, примкнут к нам».
Некоторые лидеры открыто заявляли об откровенно колониальном характере своей политики.
«Корень зла заключается, конечно, в том, что мы хотим колонизировать страну против воли её теперешнего населения, то есть, следовательно, колонизировать её насильно. Все остальные неприятности вытекают из этого корня с автоматической неизбежностью… Что же остаётся делать? Необитаемых островов на свете больше нет. В какой оазис не сунься — всюду уже сидит туземец, сидит с незапамятных времён и не хочет пришлого большинства или даже просто большого наплыва пришельцев», — Владимир Жаботинский, «Этика железной стены».
В дальнейшем лидеры сионистского движения осознали необходимость постепенного вытеснения палестинцев с рынка труда. Массовая скупка евреями крупных земельных участков, начавшаяся в 20-х годах, сопровождалась изгнанием с земли арабских тружеников, после чего в Палестине образовался многочисленный класс безземельных крестьян. Многие сионисты ещё в то время отмечали, что с юридической точки зрения они имеют полное право распоряжаться своей собственностью так, как пожелают, и, соответственно, нанимать на работу тех, кого им угодно. Однако, как говорится, не всё то, что разрешает закон, позволяет и совесть. В поселенческом движении были и те, кто выступал с осуждением подобной политики. Так, современники Жаботинского, такие же первопроходцы из первой алии — Ицхак Эпштейн и Ашер Гинцберг — как в воду глядели, когда предупреждали о пагубных последствиях массовой миграции и жестокого обращения с местным населением. Однако их голоса остались неуслышанными. А точнее, к ним никто и не собирался прислушиваться.
«Евреи прибывали в Палестину с лозунгом “это наша земля”. И они даже не подразумевали, что да, возможно, это наша земля, но на ней уже проживает другой народ. Давайте как-то уживёмся вместе. Нет. Сама идея Израиля вплоть до сегодняшнего дня состоит в том, что территория от Средиземного моря до реки Иордан — это только наша земля, исключительно наша земля, других претендентов просто нет. Конечно, тут имеется арабское население, и мы прекрасно знаем об этом, но кроме нас тут нет народа, имеющего легитимное право на эту землю. Земля принадлежит лишь нам, и потому, если вы палестинец — то либо просто заткнитесь, и, в лучшем случае, довольствуйтесь небольшим островком земли, который мы выделим для вас, либо убирайтесь отсюда». [Монолог Джеффа Халпера]
Теперь перейдём к так называемым «левым сионистам». Вам, наверное, часто приходилось слышать про «левые корни Израиля». Что ж, мы нашли кое-что интересное для вас. Ещё во времена Османской Империи еврейской социал-демократической партией «Поалей Цион» была выдвинута концепция под названием «авода иврит», что в переводе означает «еврейский труд». Суть её заключалась в том, что еврейским предпринимателям и землевладельцам в Палестине не рекомендовалось нанимать на работу арабов. А еврейские профсоюзы, известные под названием Гистадрут, занимались организацией пикетов на еврейских предприятиях, где было разрешено работать арабам. В эти же профсоюзы, как нетрудно догадаться, были закрыты все двери для арабских крестьян и рабочих. Та же самая история с пресловутыми кибуцами. С момента возникновения нового еврейского ишува любители самоорганизации также выступали за сегрегацию еврейских и арабских рабочих, а также за трансфер последних за пределы будущего еврейского государства. Подобные взгляды и действия так называемых «левых сионистов» аргументировались тем, что занятость арабских рабочих будет препятствием для нового притока еврейских иммигрантов, а также понизит заработную плату еврейских рабочих в целом. Политическая партия «Ахдат Ха-Авода», основанная Давидом Бен-Гурионом в марте 1919 года, отказалась вступать в Коммунистический Интернационал, предпочтя международному братству рабочих Всемирную Сионистскую Организацию. А вот чем в 1912 году отметился один из лидеров так называемого «левого сионизма», лидер партии «Хапоэль Хацаир» Ицхак Бен-Цви:
«В определённых исторических условиях национальные интересы должны иметь приоритет перед классовой солидарностью. Организованные и сознательные еврейские рабочие в Палестине имеют право требовать исключения этой дешёвой неорганизованной арабской рабочей силы с их рабочих мест в мошавах и других местах еврейского сектора».
Вот он, пример настоящего пролетарского интернационализма! Более категоричным в высказываниях был его коллега, один из редакторов партийной газеты — Яков Рабинович, оставивший в своей работе под названием «В защиту национального труда» следующую запись:
«Сионистский истеблишмент должен защищать еврейских рабочих от арабских так же, как французское правительство защищает французских колонистов от туземцев в Алжире».
Занавес!
Ещё один интересный момент из истории. В 1917 году сионистское движение снискало позволения Британской империи на создание в будущем еврейского государства. Это было закреплено в так называемой «Декларации Бальфура». Декларация представляла собой письмо министра иностранных дел Джеймса Бальфура Ротшильду, в котором министр заверил олигарха в том, что Империя посодействует воплощению сионистской мечты в реальность. Можете ли вы представить себе Джеймса Конноли или, скажем, Джулиуса Ньерере, плачущих в жилетку власть предержащих, унизительно выпрашивающих у них помощи в деле национального освобождения? К слову, именно так и вёл себя Теодор Герцль на встречах с турецким султаном и германским кайзером незадолго до своей смерти. Поэтому не выдерживает никакой критики любая попытка охарактеризовать сионизм как некое «национально-освободительное движение». Ибо вместо того, чтобы бороться с империализмом, лидеры движения трусливо искали его покровительства. Вместо того, чтобы консолидировать еврейских и арабских трудящихся, сионизм сеял вражду и конкуренцию между ними. А вместо того, чтобы признать право арабов, составлявших большую часть народа Палестины, на самоопределение — он изгнал их, и их дети и внуки до сих пор прозябают в лагерях для беженцев. Как раз об этом пойдёт речь в нашей следующей главе.
Миф третий: «Палестинцы добровольно покинули свои дома в 1948 году»
Аргументация официальной израильской историографии по данному вопросу на протяжении десятилетий остаётся неизменной. Согласно ей, огромные массы палестинцев стали беженцами потому, что их лидеры приказали им на время войны 48 года покинуть территорию Палестины. А их возвращение якобы планировалось после триумфа арабских армий, целью которых было «вторгнуться и скинуть евреев в море». Но, как известно, триумф остался за солдатами Израиля, и, соответственно, палестинцам было запрещено вернуться домой. Всё это уже само по себе — даже без какого-то ознакомления с фактами — звучит довольно комично, не так ли? Что ж, давайте проверим достоверность подобных воззрений.
Обратившись к историческим документам, мы увидим, что идея этнической чистки палестинского населения не была каким-то хаотичным решением, принятым на горячую голову во время военных действий в 1948 году, но являлась тщательно обдуманным и предполагаемым планом на будущее. Идеолог так называемого «левого сионизма» Нахман Сыркин в своём памфлете «Еврейский вопрос и социалистическое еврейское государство», вышедшем в 1898 году, писал:
«Там, где население смешанное, необходимо осуществить мирную миграцию народов и национальное распределение территории. Густонаселённая Палестина, где евреи уже составляют 10 процентов населения, должна быть эвакуирована в пользу евреев».
В своих мемуарах бывший агент по покупке земли в организации барона Эдмона де Ротшильда Шабтай Леви поделился следующими воспоминаниями:
«Он (речь шла о Ротшильде) посоветовал мне заняться подобной деятельностью, но, по его словам, желательно переселять арабов не в Сирию или Трансиорданию — поскольку эти земли являются частью Израиля — а в Месопотамию (Ирак). Он добавил, что в таком случае будет готов за свой счет выслать арабам новое сельскохозяйственное оборудование и консультантов».
В 1930-м году в журнале «Новая Палестина» под авторством Абрахама Голдберга вышла такая запись:
«В Трансиордании есть много свободной, неиспользуемой земли. Если выделить её палестинским крестьянам, то они с радостью поселятся там в большом количестве. Это было бы достойным решением так называемой арабской проблемы в Палестине. В своё время Израэль Зангвиль предложил аналогичное решение арабского вопроса в Палестине, но был “высмеян без суда и следствия”, и его обвинили в том, что он утопист, предлагающий столь невыполнимые вещи. Теперь-то мы знаем…»
В 1937 году, на двадцатом съезде сионистского конгресса в Цюрихе Берл Кацнельсон — кстати, очередной «левый сионист» — заявил:
«Дальний сосед лучше, чем враг вблизи. В случае трансфера они не потеряют ничего, а мы уж тем более. В конце концов, это — взаимовыгодная политическая сделка. В течение довольно долгого времени я считал, что это — лучшее решение, и во время беспорядков я лишь убедился в том, что в один день это должно произойти».
В те годы люди, подобные Кацнельсону, искренне надеялись на то, что британское правительство найдёт общий язык с арабским населением и по-хорошему убедит их переселиться в соседние страны, заплатив им денег в качестве компенсации. Однако, судя по письму, отправленному в 1937 году Давидом Бен-Гурионом его сыну Амосу, будущий премьер-министр Израиля уже тогда осознавал, что насильственный трансфер всё же станет необходимостью. Вот перевод отрывка из этого письма, сделанный израильским историком Иланом Паппе:
«Принудительный трансфер арабского населения из долин предполагаемого еврейского государства может дать нам то, чего у нас никогда не было… нам предоставляется возможность, о которой мы даже не смели мечтать в наших самых смелых фантазиях. Это больше, чем государство, правительство и суверенитет. Это — национальная консолидация на освобождённой родине».
В том же году он добавил:
«При условии принудительного трансфера у нас была бы обширная территория для поселений… Я поддерживаю принудительный трансфер и не вижу в этом ничего аморального».
Также, порывшись в архивах еженедельной британской газеты «Еврейская хроника», мы наткнулись на весьма интересную запись, датированную 13 августа 1937 года. Она касалась предложения британской комиссии Пиля организовать переселение арабов — если нужно, насильственное — на территорию соседних арабских стран. Автором её был будущий президент Израиля — Хаим Вайцман. Цитата:
«Касательно трансфера арабского населения: я сказал, что весь процесс этой операции зависит от того, действительно ли правительство желает выполнить это указание. Передача может быть осуществлена только британцами, но не евреями. Я объяснил причины, по которым мы считаем данный проект настолько важным. Господин Дэвид Гор сказал, что предлагает создать комитет ради двух целей: первая — финансировать покупку земли переселённым арабам (они надеялись найти землю в Трансиордании и, может, в Негеве), и вторая — согласование фактических условий трансфера. Он упомянул сэра Джона Кэмпбелла, что имел большой опыт в перемещении населения между Грецией и Турцией и знал всё об этом. Он согласился с тем, что в случае, если Галилею отдадут евреям, а Негев нет, то ситуация будет очень трудной без трансфера». Конец цитаты.
Ещё в те времена лидерам сионистского движения было очевидно, что их проект, предполагающий создание государства с еврейским большинством, невозможно воплотить в жизнь без массовой этнической чистки. Пожелания Кацнельсона и Вайцмана о том, чтобы у руля трансфера стояли британцы, как и о том, чтобы этот трансфер носил добровольный характер, в конечном итоге не воплотились в жизнь, и за грязную работу пришлось браться самим сионистам. Итак, как же идеи о массовом переселении палестинцев, вынашиваемые на протяжении предыдущих десятилетий, воплотились на практике? Рассмотрим ряд исследований. Но для начала — немного предыстории…
Подготовка сионистов к предполагаемому захвату земель — в том случае, если дипломатические меры не помогут — подразумевала серьёзное военное обучение. И в этом деле им здорово помогли симпатизанты из лагеря британских офицеров. Одним из них был британский генерал- майор, приверженец христианского сионизма — Орд Чарльз Уингейт. Он родился в Британской Индии в религиозной семье, а его отец был профессиональным военнослужащим. Своё знакомство с арабским миром Орд Чарльз начал в 1928 году, проходя службу в Судане. Спустя восемь лет он отправился в Палестину, где во время арабского восстания 1936 года приложил все усилия для того, чтобы наладить отношения между британскими войсками и сионистскими бандформированиями для совместного подавления «бунтарей».
В 1938 году, во время восстания, еврейские солдаты впервые узнали, каково это — идти с оружием в руках на беззащитную деревню. Вместе с британцами они атаковали посёлок на границе современных Израиля и Ливана. Амация Кохен, принимавший участие в карательной операции, запомнил как английский сержант накричал на него за пассивность в процессе:
«Мне кажется, что вы все из Рамат Йоханан (тренировочный лагерь) — полные бездари, вы ведь даже не знаете, как использовать штыки при нападении на грязных арабов! Как вы вообще смеете ступать на поле боя?»
Но всё это было лишь прелюдией. Девять лет спустя, 29 ноября 1947 года, Организация Объединённых Наций выпускает резолюцию номер 181, подразумевавшую деление подмандатной Палестины на еврейское и арабское государства. В ответ на резолюцию ООН Верховный арабский комитет объявил о начале трёхдневной забастовки. Вспыхнула гражданская война, ставшая отправным пунктом начала этнических чисток против палестинского населения.
18 декабря 1947 года еврейские солдаты совершили нападение на деревню аль-Хисас. Вторгшись посреди ночи на двух грузовиках, они начали стрельбу и разрушение домов. В ту ночь погибло десять человек, среди которых 5 детей и 1 женщина. Сущий пустяк по сравнению с последующими налётами, и всё же корреспондент «Нью-Йорк Таймс», следивший за событиями в Палестине в то время, попросил объяснений у Бен-Гуриона. Бен-Гурион сначала отрицал произошедшее, после — признал содеянное и публично извинился, а спустя полгода, в апреле 48- го, внёс нападение на аль-Хисас в список удачных операций «Хаганы».
Десять дней спустя, 28 декабря, под удар попала арабская деревня Лифта. Её население составляло порядка двух с половиной тысяч жителей, которые в основном были заняты в сельском хозяйстве. Вооружённые пулеметами «штерновцы» открыли беспорядочный огонь по одной из кофеен и проезжавшему рядом автобусу. Второй этап зачистки деревни был продолжен через две недели, когда солдаты Хаганы начали поочерёдное разрушение домов после того, как выгоняли из них жителей. Количество погибших остаётся неясным, однако известно, что к февралю 48-го Лифта была полностью обезлюдевшей. В 2005 году группа израильских энтузиастов из организации «Зохрот», что с иврита переводится как «напоминание», организовала поход в деревню. Целью мероприятия было проинформировать граждан о том, с кем боролись их доблестные солдаты, возведённые государством в ранг героев.
Операции, начавшиеся в феврале, отличались от предыдущих своей организованностью и систематичностью. 15 февраля 1948 года подверглась атаке арабская деревня Кесария, находившаяся в пригороде Хайфы. Выселение жителей было совершено в рекордные сроки — всего пара часов понадобилась солдатам подразделения «Пальмах» для насильной эвакуации жителей и разрушения домов. Ночью того же дня под руководством Игаля Алона «пальмаховцы» напали на посёлок Сааса. Согласно официальным источникам «Хаганы», жители деревни укрывали палестинских повстанцев. Вторжение происходило без какого-либо сопротивления, после чего, согласно журналистскому расследованию «Нью-Йорк Таймс», солдаты начали закладывать взрывчатые вещества под дома для их дальнейшего уничтожения.
Пожалуй, самой печально известной этнической чисткой стала резня в деревне Дейр-Ясин. Деревня была расположена на одном из холмов к западу от Иерусалима и по соседству с еврейским поселением Гиват-Шауль, с которым жители Дейр-Ясина подписали договор о ненападении и свободном проезде. Однако существовала одна проблема — арабская деревня буквально «мешалась на пути» между Тель-Авивом и Иерусалимом, создавая логистические неприятности будущему еврейскому государству. Ранним утром 9 апреля солдаты «Иргуна» и «Хаганы» окружили деревню с трёх сторон, оставив жителям некий «коридор» для побега. После вторжения пулемётчики начали беспорядочную стрельбу по домам. Согласно данным Организации Объединённых Наций, в процессе операции было убито около 250 человек, однако немало историков сходятся во мнении, что количество погибших не превышало ста двадцати, более ста из которых были из числа гражданского населения.
Очевидец событий, израильский военный историк Меир Паиль делится воспоминаниями:
«Они открыли огонь из всего оружия, что имели при себе, одновременно закидывая взрывчатку в дома. Также они расстреливали всех, кого видели в домах, включая женщин и детей — безусловно, командиры даже не пытались пресечь позорные акты убийства».
В одной из своих книг американский политолог Норман Финкельштейн приводит слова бывшего директора архивов израильской армии, цитата:
«Практически в каждой деревне, оккупированной нами во время войны… были совершены действия, определяющиеся как военные преступления, такие как убийства, погромы и изнасилования». Конец цитаты.
Подобная политика была вызвана желанием посеять страх среди арабского населения, заставив его покинуть свои дома. Создание государства Израиль сопровождалось массовыми этническими чистками, в результате которых были разрушены свыше пятисот палестинских деревень, порядка пятнадцати тысяч палестинцев были жестоко убиты, а семьсот тысяч человек стали беженцами.
[отрывок из монолога Тиквы Хениг-Парнасс]
«Когда я вспоминаю всё это, знаете… Моральный паралич был настолько велик, что должен был сопровождаться агрессией по отношению ко всем, кто осмелится поколеблить его. Незадолго до своей смерти моя мать послала мне целую гору писем, которые я до сих пор не прочла до конца. Я достала первое или второе письмо, которое написала ей в ответ. Оно было написано на бланке Мохаммада Садыка, менеджера заправочной станции “Артуф”, надпись была на английском и арабском языках. Я точно не помню, где и когда написала это письмо. Полагаю, что на той самой станции. Я ответила матери: “Несколько дней назад мы захватили этот район”. Я даже не осознавала того факта, что писала на листке бумаги, который принадлежал человеку, бежавшему или насильно высланному отсюда несколькими днями ранее. Я смутно помню, что находилась в том или ином месте, но ничего это не значило для меня. Я воспринимала это как должное, как будто… как будто здесь не было войны. Мы прибыли, и слава Господу. И затем я начала в романтическом ключе описывать, как прекрасны горы, как мирно вокруг, и как отсюда можно увидеть Гуш Эцион и всё в таком роде… Всё это было написано обычной сионистской девчонкой, которая была твёрдо убеждена, что идёт война Добра со Злом».
Миф четвёртый: «Шестидневная война была превентивным ударом»
Вот уже на протяжении полувека израильская пропаганда убеждает мировую общественность в том, что в «Шестидневной войне» еврейское государство было именно жертвой, а не агрессором. Самое интересное, что тут мы имеем две основные интерпретации событий 1967 года, слегка противоречащие друг другу.
Одна из них утверждает, что первая атака была совершена на Израиль, и уже затем последовал ответ. Вторая же говорит о том, что у израильского руководства не было выбора, кроме как атаковать первым, тем самым предотвратив запланированную агрессию арабских стран. Как бы там ни было, давайте рассмотрим обе версии.
5 июня, в момент начала военных действий, министерство иностранных дел Израиля поручило своему дипломату, Гидеону Рафаэлю, сообщить ООН следующее:
«Немедленно оповестите председателя Совета безопасности о том, что в настоящее время Израиль занят отражением удара египетских сухопутных и воздушных сил».
Поручение было выполнено, и в тот же день Гидеон Рафаэль дополнительно сообщил:
«Сегодня рано утром египетские танковые колонны начали наступление на израильские границы. В то же время египетские самолёты взлетели с аэродромов в Синае и нанесли удар по Израилю».
На следующий день премьер-министр Израиля Леви Эшколь выступил в ООН с заявлением. Цитата:
«Утром 5 июня, когда египетские войска нанесли по нам удары с воздуха и на суше, атакуя деревни Киссуфим, Нахал-Оз и Эйн-Хашлоша, мы поняли, что лимит опасности исчерпан. В соответствии с нашим неотъемлемым правом на самооборону, сформулированным в статье 51 устава ООН, Израиль ответил на агрессию со всей силой. Никогда в истории народов вооружённая сила не использовалась для более справедливых целей». Конец цитаты.
Вскоре выяснилось, что ни одно из вышеприведенных утверждений израильских политиков не было правдой. По сей день невозможно найти никакой информации об атаках на три перечисленных Эшколем деревни. И, опять же, самое забавное тут то, что очередная фальсификация истории со стороны израильской пропаганды опровергается словами самих же высокопоставленных чиновников Израиля. Так, в автобиографии министра обороны Моше Даяна мы найдём следующее признание:
«Первый огонь в буквальном смысле был, безусловно, открыт нами, и огонь был хорош, разрушив 70 процентов авиатехники арабских стран в первый же день».
Официальный сайт Министерства иностранных дел Израиля также подтверждает тот факт, что Израиль напал первым. В главе о Шестидневной войне содержится выдержка из книги Нетанеля Лорча «Арабо-израильские войны». В ней речь идёт о первых часах войны, когда иорданские радары опознали самолёты, направляющиеся из Египта в Израиль. И эти самолёты, цитата:
«были израильскими самолётами, что возвращались после ошеломительной атаки против египетской авиации, неожиданно застигнутой врасплох».
Вообще, версия о том, что в 1967 году арабские страны первыми напали на Израиль, настолько дискредитировала себя, что сегодня ею уже мало кто пользуется, поэтому оспаривать тут, на самом деле, уже нечего. Необходимость этой версии проявлялась лишь в момент начала войны, чтобы оправдать экспансию в глазах европейской и северо-американской общественности.
Перейдём ко второй, более интересной трактовке, утверждающей, что у Израиля не было выбора, так как правительства соседних арабских стран постоянно угрожали и тайно готовились к войне. Вообще говоря, подобное невозможно опровергнуть. Нет, ну действительно, откуда нам знать, о чём там шептались Нуреддин аль-Атаси с условным королем Хуссейном? Откуда нам, к примеру, знать, что происходит в голове у Дональда Трампа сегодня, когда он делает провокационные заявления по поводу вторжения в Венесуэлу? Серьёзны ли его намерения, или это просто игра мускулами? Мы не ясновидящие, а потому не можем со стопроцентной точностью отрицать то, что в 1967 году соседние арабские государства планировали напасть на Израиль. Однако, всё же приведём несколько доводов, которые поколеблют предположения об этом.
Итак, одним из аргументов служит тот факт, что за несколько недель до начала войны президент Египта Гамаль Абдель Насер стянул войска к границе с Израилем, одновременно попросив миротворцев ООН покинуть территорию. Следует ли из этого, что Египет хотел напасть на Израиль? Пожалуй, один из известнейших израильских политиков — Менахем Бегин — считал, что нет. Рассуждая о вторжении в Ливан в 1982 году и сравнивая его с Шестидневной войной, он проронил такую фразу:
«Концентрация египетских солдат на Синайском полуострове ещё не доказывает, что Насер хотел напасть на нас… Однако мы напали на него».
Что-то похожее произошло в 1960 году, когда десятки тысяч солдат египетской армии были передислоцированы на Синайский полуостров, однако никаких «превентивных ударов» в ответ не последовало, впрочем, как и нападения на Израиль. Израильский историк Том Сегев склоняется к тому, что в то время как раз-таки Насер имел все основания подозревать Израиль в планировании нападения на Сирию, чем и было обусловлено стягивание войск к границе. Причём Насера также обвиняют в неаккуратных высказываниях в преддверии войны. Что ж, факты показывают, что политкорректность израильских лидеров также была не на высоте. Вот высказывание Ицхака Рабина, датированное маем 1967 года:
«Наступит момент, когда мы маршем пойдём на Дамаск, чтобы скинуть сирийское правительство, потому что, по всей видимости, военные действия — это единственное, что помешает планам “народной войны”, которой они нам угрожают».
Леви Эшколь 12 мая 67-го во всеуслышание заявил по израильскому радио, что Израиль может, цитата:
«… преподать Сирии более жёсткий урок, нежели 7 апреля».
Седьмое апреля — это отсылка к бомбардировкам Израилем сирийских приграничных деревень, откуда палестинские боевики время от времени совершали вылазки.
Также имеется запись разговора посла СССР Дмитрия Пожидаева с египетским политиком Шамсом Бадраном, где последний отметил, что:
«В настоящее время указанные соединения египетской армии перешли Суэцкий канал и заняли исходные позиции для наступления, которое начнётся немедленно в случае, если Израиль нападет на Сирию».
Но предположим, что в этот раз Египет и впрямь планировал атаковать Израиль — данный акт был бы просто самоубийством. Во-первых, несколько десятков тысяч солдат — значительная часть египетской армии — принимали в то время участие в гражданской войне в северном Йемене. Во-вторых, количество египетских солдат на границе Израиля было уж слишком небольшим для нападения. Согласно профессору гарвардского университета Джону Куигли, ссылающемуся в своей книге «Шестидневная война и израильская самооборона» на слова американского генерала Эри Уилера, в мае 1967 года на границе между Египтом и Израилем находились 160 тысяч израильских солдат и лишь 50 тысяч египетских. И, наконец, в-третьих… тотальный разгром арабских армий явно говорит о том, что ни о какой подготовке к нападению речи не шло.
Утверждения, согласно которым израильское правительство искренне полагало, что страна подвергнется нападению со стороны соседей и что стране грозила неминуемая опасность, не имеют под собой никаких оснований. Смеем предположить, что Шестидневная война была очередным актом империалистической агрессии, коих история второй половины двадцатого века знала предостаточно. Каждый из этих актов агрессии имел своё «моральное оправдание» — и каждое из этих оправданий, если тщательно приглядеться, выглядит довольно нелепо.
Миф пятый: «Израиль — единственная демократия на Ближнем Востоке»
При разборе данного мифа, мы, конечно, будем отталкиваться от критериев буржуазной демократии, от её основополагающих принципов. Является ли Израиль демократией? Или, пожалуй, поставим вопрос иначе — насколько демократичен Израиль? Начнём издалека.
Многие наверняка слышали о том, что 160 тысяч израильских арабов, которые по тем или иным причинам не были изгнаны во время «Накбы», стали, подобно еврейскому населению, равноправными гражданами. Более того, им даже выдали израильские паспорта! Однако мало кому известен тот факт, что вплоть до 1966 года на территории, где проживали израильские арабы, распространялось военное положение, а военная администрация осуществляла практически неограниченный контроль над гражданами-арабами. По отношению к ним израильские офицеры обладали одновременно законодательными, исполнительными и судебными полномочиями, что совершенно не свойственно государствам с демократическим режимом.
«Военное положение было продуктом чрезвычайных законов, введённых во время британского мандата в Палестине — законов, которые были разработаны в том числе и для контроля над еврейским населением. Еврейские адвокаты, боровшиеся с этими законами в то время, сравнивали их с политикой нацистов. В повседневной жизни военное положение проявлялось в основном в ограничениях, налагаемых на передвижение граждан. Всякий раз, когда они хотели покинуть свой район или место жительства, им приходилось появляться в офисах военного губернатора и получать разрешение, в котором указывались не только пункт назначения и дата, но также время отъезда и возвращения обратно. Разрешение требовалось для любого передвижения, будь то поездка на работу, медицинское обследование или посещение родственников. Свадьбы, похороны, хирургическое вмешательство, поход в кино в соседнем городе… Разрешения на передвижение служили средством угнетения и контроля: бывало, людям приказывали шпионить за своими соседями, сдавать их, всё ради получения разрешения на поездку».
Закон военного времени служил основным инструментом вытеснения палестинского населения из еврейского государства. Израильское руководство не было заинтересовано в наличии нелояльных государству элементов, которые, с большой вероятностью, станут пятой колонной во время очередной войны с соседями. Видный израильский политик левого толка Ури Авнери как-то подметил:
«Бен-Гурион всегда славился своим пренебрежительным отношением ко всему арабскому. С момента создания государства премьер-министр ни разу не удосужился посетить какой-либо арабский населённый пункт. Во время посещения еврейского района в Назарете он отказался совершить визит в арабский район, находящийся всего в паре сотен метров. В первые десять лет существования государства Бен-Гурион не принял ни одну делегацию арабских граждан Израиля».
Дабы избежать международного давления, стоило побудить израильских арабов к тому, чтобы они добровольно покинули территорию страны. В ход шли: комендантский час в палестинских районах, постоянные задержки на контрольно-пропускных пунктах, «ночные визиты» военных в дома и квартиры палестинцев и последующие задержания людей без санкции суда.
Переломным моментом в истории этого закона стало массовое убийство в арабской деревне Кафр- Кассем 29 октября 1956 года. Причиной его была неосведомлённость жителей деревни о спонтанном введении очередного комендантского часа. Открыв огонь по ничего не подозревавшим жителям, солдаты лишили жизни 47 человек, 23 из которых были несовершеннолетними. В первые месяцы израильское правительство запрещало публиковать какие-либо материалы об убийствах, однако чуть позже независимые средства массовой информации взяли верх. После событий в Кафр-Кассеме голоса израильских граждан и левых политиков, выступавших за отмену закона военного времени в палестинских районах, стали громче. Произошедшее продемонстрировало всю аморальность военного режима и подтолкнуло израильское правительство к определённым уступкам. Впоследствии израильские власти вынуждены были пойти на смягчение закона, и спустя девять лет он был официально отменён.
Отказ палестинским беженцам и их детям в праве на возвращение домой, и в то же время предоставление этого права тем, кто не имеет к Палестине никакого отношения, также не характеризуют еврейское государство как демократическое. C 1950 года и вплоть до сегодняшнего дня в Израиле существует предельно абсурдный закон «о возвращении», декларирующий право каждого еврея, где бы он ни жил, репатриироваться на «историческую родину». В то время как пострадавшим во время Накбы — людям, чьи предки из поколения в поколение жили и работали на палестинской земле — путь домой закрыт навсегда.
Далее. Как известно, арабское и еврейское населения в пределах государства Израиль так или иначе живут разрозненно — существуют арабские деревни, а в городах со смешанным населением, как, например, в городе Хайфа — арабские районы. Согласно британской газете «Гардиан», размеры субсидий, направленных на развитие еврейских населённых пунктов в Израиле, в разы больше, чем направленных на развитие арабских. В 2002 году в арабских пунктах было выделено лишь четырнадцать фунтов на душу населения, в еврейских — полторы тысячи фунтов на душу населения. А из 35 миллионов фунтов, выделенных государством на здравоохранение, лишь 200 тысяч предназначалось для арабских населённых пунктов. В 2011 году газета «Джерусалим Пост» сообщила, что:
«В промежутке между 1997 и 2006 годами средний доход гражданина-еврея был на 40-60% выше среднего дохода гражданина-араба».
Действительно, в израильском государстве все граждане равны. Но, по всей видимости, некоторые граждане немного равнее других.
Можно также коснуться правового поля современного Израиля. В июле 2011 года в стране принят закон «О борьбе с бойкотами». В соответствии с ним, каждому гражданину Израиля, призывающему к экономическому, культурному или академическому бойкоту израильских учреждений и строительства поселений на Западном Берегу, может быть предъявлен гражданский иск. Также участникам бойкота гарантирован отказ в освобождении от уплаты налогов. Сторонники данного закона рассматривают его как некую преграду от левых и прочих представителей «пятой колонны», желающих вставлять палки в колёса израильским корпорациям и очернять страну в глазах мировой общественности. Относительно недавно в Израиле ужесточили закон о надругательстве над государственным флагом. Теперь максимальное наказание, ожидающее правонарушителей, достигает 3 лет лишения свободы и штрафа размером в 58 тысяч шекелей, или 15 тысяч долларов.
Но всё то, что происходило и происходит в границах Израиля — это ещё цветочки по сравнению с тем, что творится на территории Западного Берега с момента её военной оккупации.
Как мы уже упоминали выше, после победоносной кампании 1967 года Западный Берег реки Иордан перешёл под контроль Израиля. Игнорируя резолюцию ООН номер 242, израильские военные всё ещё пребывают на территории Западного берега, а правительство продолжает строительство нелегальных поселений, сопровождающееся разрушением домов местных жителей. Согласно данным ООН, приводимым в докладе Human Rights Watch, за последние десять лет оккупации были разрушены 5914 домов, в результате чего свыше девяти тысяч человек остались без крова. В число разрушенных зданий также входят учебные заведения. Израиль неоднократно отказывал палестинцам в строительстве школ на Западном Берегу и разрушал те из них, что были построены без позволения израильского руководства.
Существуют все основания характеризовать ситуацию на Западном Берегу как апартеид. Две группы населения, а именно — палестинские арабы и израильские поселенцы — живут в условиях действия разных правовых систем. На палестинцев, проживающих на территориях b и c — а это, напомним, 90% территории Западного Берега — распространяются законы военного времени. В то время как на израильских поселенцев, составляющих меньшинство от общего населения, распространяется обычное израильское законодательство.
На Западном Берегу имеются дороги, проезд по которым разрешён только израильтянам, а вся территория усыпана контрольно-пропускными пунктами, на которых палестинцы ежедневно тратят по несколько часов, возвращаясь с работы домой. Также одна из самых болезненных тем — это доступ к воде. С 1967 года Израиль контролирует все водные ресурсы на оккупированной территории. Распределение воды идёт, мягко говоря, недемократично — пятьсот тысяч поселенцев потребляют её в шесть раз больше, нежели два с половиной миллиона палестинцев.
И если всё вышеперечисленное сегодня называется демократией, то мы вынуждены сообщить нынешнему поколению людей, что у нас с вами большие проблемы…
Миф шестой: «Агрессия против Газы является вынужденной мерой»
В данной главе мы разберём сразу несколько мифов, которые часто соседствуют друг с другом в аргументации сторонников Израиля.
Сектор Газа — это небольшой участок земли размером примерно 10 на 50 километров. На сегодняшний день он является самым плотно населённым регионом в мире, насчитывая на своей территории около 2 миллионов жителей. Примерно две трети населения Газы — это беженцы 1948 года и их потомки. В 2005 году по решению премьер-министра Израиля Ариэля Шарона все восемь тысяч израильских поселенцев вместе с солдатами окончательно покинули Газу, а через полгода, после выборов, к власти в Секторе пришло движение исламского сопротивления — ХАМАС. Чуть позже мы ещё поговорим о нём. С того времени Газа подверглась атаке 3 раза — во время операций «Литой свинец» в 2008 году, «Облачный столп» в 2012 и «Нерушимая скала» в 2014. Если сложить длительность каждой из них, то в сумме получим 76 дней. За это время в Газе были убиты свыше пяти тысяч человек — подавляющее большинство не имели никакого отношения к военизированным группировкам — и ранены свыше 15 тысяч.
Жестокость израильской армии во время трёх перечисленных операций легкомысленно оправдывается утверждением о том, что ХАМАС использует жителей Газы в качестве живого щита. Тем не менее, до сих пор ни одна из независимых сторон, включая Организацию Объединённых Наций, не подтвердила данное обвинение. Организация «Международная Амнистия» занимается расследованием подобных вопросов по всему миру. Обратимся к её докладу 2009 года, посвящённому операции «Литой свинец»:
«Вопреки неоднократным заявлениям израильских официальных лиц об использовании “живого щита”, Amnesty Inernational не нашла доказательств того, что ХАМАС или прочие палестинские организации использовали гражданских лиц для защиты военных объектов. Amnesty не нашла никаких доказательств того, что ХАМАС или прочие палестинские организации заставляли жителей оставаться в зданиях, используемых боевиками, находиться рядом с этими зданиями, или запрещали им покидать их».
Валлийский журналист Джереми Боуэнс, находившийся во время операции «Нерушимая скала» 2014 года в Газе, придерживается аналогичных взглядов:
«Я видел, как Беньямин Нетаньяху давал интервью телеканалу “Би-Би-Си” после того, как Израиль убил больше шестидесяти мирных жителей в районе Газы Шаджаийа. Он сказал, что очень сожалеет о случившемся, однако повесил всю вину на ХАМАС. Нетаньяху утверждал, что руководство Израиля предупредило людей о необходимости выйти из здания, однако ХАМАСовцы запретили им. Тем не менее, в течение недели моего пребывания в Газе я не видел никаких доказательств израильских обвинений в том, что ХАМАС использует мирное население в качестве живого щита».
«Живой щит» служил неким алиби не только израильтянам, но и представителям еще одной самой гуманной армии в мире. Военные преступления Соединённых Штатов Америки во Вьетнаме оправдывались тем, что вьетконговцы использовали мирное население в качестве «живого щита». Хорошая тактика — выжечь напалмом целые населённые пункты, нанести удары с воздуха по домам, школам и больницам, после чего возложить всю ответственность на военизированные группировки, находящиеся на этих территориях!
Очередным распространённым мнением является то, что Израиль планировал сделать из Газы чуть ли не ближневосточный Сингапур, однако по вине жителей Сектора там теперь правит «террористическая организация». Министр обороны Израиля недавно даже сделал видеообращение к народу Газы, где весьма невыразительно, по бумажке, прочитал текст, в котором говорилось, что как только палестинцы скинут ХАМАС, израильтяне сразу же станут их самыми лучшими и преданными друзьями и помогут им превратить огромный лагерь для беженцев в тот самый Сингапур на Ближнем Востоке… Тут мы даже не знаем, с чего начать…
Что ж, во-первых, стоит напомнить о том, что палестино-израильский конфликт начался задолго до возникновения ХАМАСа, и задолго до того, как другие исламские группировки имели какое-то серьёзное влияние в Палестине. Примерно до середины восьмидесятых годов палестинское движение сопротивления было светско-демократическим и содержало в себе элементы левой идеологии. К исламизации палестинского сопротивления приложило руку израильское руководство — и это, между прочим, не очередная «теория заговора». Данная версия имеет под собой достаточно оснований, признаётся многими западными политологами, да и в принципе не является секретом для каждого, кто изучал конфликт — даже вне зависимости от того, чью сторону он занимает.
Авнэр Кохен — израильский историк, проходивший службу в Газе в конце восьмидесятых годов. Как раз в то время Кохен наблюдал, как молодая организация ХАМАС вставала на ноги. В 2009 году в интервью американской газете Wall Street Journal он заявил:
«ХАМАС, к моему величайшему сожалению, является продуктом Израиля».
Далее Кохен объяснил, как израильское руководство помогало благотворительной организации «Муджамма аль-Исламия», основанной клерикальным шейхом Ахмедом Ясином в 1979 году. Израиль официально признал легитимность организации и снабжал её денежными ресурсами. Благодаря израильской помощи шейх Ахмед Ясин выстроил сеть исламских социальных институтов по всей территории Газы, включая школы, университеты, мечети и библиотеки религиозного толка. Исламисты нападали на магазины и кинотеатры, где продавались алкогольные напитки. При невмешательстве израильской военщины они устроили погром в университете Наблуса и атаковали демонстрацию студентов университета Бир-Зейт в Рамалле. Власти Израиля, по словам Кохена, надеялись, что распространение религиозного фундаментализма пошатнёт власть светских группировок, в особенности организации ФАТХ. Генерал израильской армии Ицхак Сегев, бывший военным губернатором в Газе, делясь воспоминаниями, утверждал, что их основным врагом на тот момент был именно ФАТХ, и что шейх Ясин пребывал в довольно дружелюбном настроении по отношению к Израилю. Стоит отметить, что тенденция видеть в светском национально-освободительном движении злейшего врага в те времена была свойственна многим странам из лагеря западного империализма. В данном случае практика Израиля перекликается с опытом США, чьё руководство во время Холодной войны видело в исламистах полезных союзников против красной угрозы.
«Если обратиться к истории, мы увидим, что ХАМАС заручался поддержкой израильского руководства и был создан им. Потому что оно хотело, чтобы ХАМАС противодействовал Ясиру Арафату. И вы, конечно, скажете: “Ну, это было лучшим решением тогда, и мы не хотели, чтобы ХАМАС делал то-то и то-то…”»
«Я написал главу об Израиле, а точнее о том, как после 1967 года, когда израильтяне оккупировали Западный Берег и сектор Газа, у них появилась “блестящая” идея распространить политический ислам в целях борьбы с растущим влиянием палестинского национализма.
Ахмед Яссин, будучи основателем ХАМАСа в 1987 году, находился в заключении в Газе до 1967 года. Как известно, до оккупации Газа находилась под контролем Египта, а египетское руководство находилось в состоянии войны с организацией “Братья-мусульмане”. Яссин же, в свою очередь, был лидером палестинского филиала “Братьев-мусульман”.
И когда израильтяне оккупировали Газу, они освободили Яссина из тюрьмы. И не просто освободили, но на протяжении последующих 20 лет до создания ХАМАСа всячески поощряли распространение исламского фундаментализма, давали деньги на строительство мечетей и всё в таком духе.
Я разговаривал со многими людьми на эту тему, включая Марту Кесслер, которая была очень эрудированным аналитиком ЦРУ. Хочу зачитать вам одну из её цитат… Итак, Марта Кесслер говорила:
“Все мы видели, как Израиль буквально выращивал ислам в качестве противовеса палестинскому национализму. Радикальный ислам и религиозный экстремизм не играли особой роли в палестинском движении, по крайней мере на ранних этапах. Вступление палестинцев в ряды исламского радикализма не наблюдалось до того момента, пока Израиль не поощрил его. Конечно, Израиль не единственный, на ком лежит ответственность, но факт остается фактом”».
В конечном счёте, в 1987 году «Муджама аль-Исламия» превратилась в организацию ХАМАС.
Но вернёмся к Сингапуру. Мы понятия не имеем, что там «планировало» израильское руководство. Зато всем известно, что получилось в итоге. Сегодня Газу небезосновательно называют тюрьмой под открытым небом. Распространяющаяся по инициативе Израиля воздушная, морская и наземная блокада привела к гуманитарному кризису в Секторе. Блокада Газы началась сразу после победы ХАМАСа на выборах в феврале 2006 года и продолжается по сей день. Как писал израильский политик Ури Авнери, блокада положила начало порочному кругу насилия, так как после её начала ХАМАС и прочие, менее значительные группировки, начали осуществлять акты сопротивления — или «террора», это уж как вам угодно — запуская самодельные ракеты «Кассам». В ответ израильское правительство усилило блокаду. Жители Газы, в свою очередь, ответили ещё большим насилием, и так далее…
Налагаемые Израилем ограничения на импорт продовольствия отрезают жителей Сектора от целого ряда жизненно необходимых товаров и услуг. На сегодняшний день уровень бедности в Секторе Газа достигает 80%, 55% из числа работоспособного населения страдает от безработицы, 95% воды непригодно для питья, а электроснабжение Сектора осуществляется в среднем от 5 до 6 часов в день. Это — коллективное наказание для двух миллионов человек, не имеющих возможности выбраться за пределы трёхсот квадратных километров. Для двух миллионов человек, которым некуда бежать от повальной нищеты и негде укрыться от систематических бомбёжек одного из самых милитаризованных государств на планете. Сегодня мы слышим о Секторе Газа, как правило, из новостей и исключительно в контексте военных действий, очередных ракетных обстрелов и их печальных последствий. Относительно недавно на примере Северной Ирландии и Южной Африки история продемонстрировала, что когда ты ставишь определённую группу людей в условия дискриминации — ты встречаешь вооружённое сопротивление. Такова мораль гетто, и, на наш взгляд, она вполне оправдана. И даже не пытайтесь, сидя в уютном компьютерном кресле, лезть в гетто со своей моралью. Ибо все ваши размышления о том, что есть правильно, а что нет, не вписываются в действительность мира постоянной нужды, отчаяния, разрушения и боли.
Миф седьмой: «Террор — единственная цель палестинского сопротивления»
Всякий человек, считающий, что палестинцы не предпринимали попыток мирного урегулирования конфликта, лишь расписывается в собственном невежестве. И нет, ненасильственное сопротивление началось не после того, как военное превосходство Израиля стало очевидным фактом. Первые попытки ненасильственного сопротивления датируются ещё далёкими 1930-ми годами. Когда еврейская миграция в страну усилилась и стало очевидным воплощение декларации Бальфура на практике, палестинские рабочие вышли на улицы, дабы принять участие в мирных протестах и демонстрациях. Многие из этих демонстраций были жестоко подавлены британской жандармерией. На этой фотографии мы видим, как британские солдаты избивают палестинского политика Мусу аль-Хусейни. Он скончался от полученных увечий.
Череда жестоких репрессивных мер по отношению к демонстрантам вызвала ответную реакцию. Началась палестинская герилья. Молодой богослов из Хайфы Ызз ад-Дин аль-Кассам организовал первую военную операцию против колониальной администрации. Скорая смерть аль-Кассама, в свою очередь, спровоцировала Великое арабское восстание 1936-39 годов. И, несмотря на грозное название, оно тоже началось со всеобщей забастовки арабских рабочих и крестьян. В масштабное кровопролитие оно перешло лишь после того, как британские власти пустили в ход череду неоправданно жестоких репрессий. В итоге погибло свыше 5000 палестинцев, 300 евреев и 150 британских военнослужащих.
«Карательные действия британцев во время арабского восстания 1936-39 годов изучались большинством израильских командиров и стали неким учебным пособием для тех случаев, когда израильтяне встречали сопротивление палестинцев. На самом деле, большинство этих зверств, о которых вы читали, и о которых вы, я уверен, прекрасно знаете — большинство этих зверств, которые можно охарактеризовать как нарушение человеческих и гражданских прав, были изобретены в Палестине далеко не сионистами, но властями британского мандата во времена арабского восстания 36-39 годов. Примеры? Практика разрушения домов граждан является британским изобретением. И, кстати говоря, чтобы сделать обыск домов, где проживали мятежники, незабываемым для населения, они разрушали дом, затем разрушали следующий дом, затем ещё один, и ещё один — эта идея также принадлежит британским офицерам. Практика стрельбы в людей без предупреждения или практика ареста граждан без ордера — всё это продукт карательной политики, применявшихся к палестинским мятежникам во времена восстания. Но, конечно, израильтяне имеют и собственный арсенал подобных мер со времен начала оккупации».
[монолог Илана Паппе]
В сентябре 1967 года, спустя три месяца после начала военной оккупации, на Западном Берегу была объявлена всеобщая школьная забастовка. Причиной забастовки стало введение новых книг и учебников, вышедших из-под пера израильских историков, в учебные заведения на Западном Берегу. Преподаватели отказались выходить на работу. Вместо этого они с учениками вышли на улицы. После нескольких недель репрессивных мер, включая ночные комендантские часы, запрет на использование общественного транспорта, отключение телефонной сети и постоянное задержание лидеров демонстраций, израильской военной администрации удалось остановить стачку. Как отметил в книге «Морковка и кнут» глава израильской службы военной разведки Шломо Газит, израильское правительство хотело донести до палестинцев одну простую мысль: любой акт сопротивления приведёт к непропорциональной реакции, заставив население страдать так сильно, что сопротивление просто-напросто окажется бессмысленным.
Возьмём другой случай. 29 марта 1976 года израильское правительство издаёт указ о конфискации земель арабских граждан в населённых пунктах Дейр Ханна, Такра, Сахнин и нескольких других. На следующий день лидер коммунистической партии Израиля призвал всех неравнодушных ко всеобщей забастовке, и улицы израильских городов наполнились арабскими гражданами. Правительство объявило проведение демонстраций незаконным и пригрозило уволить с работы всех агитаторов, большую часть которых составляла интеллигенция, в основном учителя. Тем не менее, угрозы не произвели должного эффекта на работников умственного труда, и во всех арабских округах Израиля начались стихийные демонстрации. В тот день, во время протестов, было убито 6 демонстрантов. С тех пор и по сей день 30 марта в Палестине — это День Земли.
Перейдём к первой интифаде, которая обычно ассоциируется с горящими покрышками, бросанием камней и бутылок с зажигательной смесью. Всё началось довольно нелепо. 8 декабря 1987 года израильский водитель грузовика по неосторожности задавил четырёх палестинцев, возвращавшихся с работы в лагерь для беженцев. На следующий день палестинская молодёжь начала собираться на улицах Западного Берега и Сектора Газа. Поскольку массовые мероприятия, согласно закону о военном положении, были запрещены, израильские солдаты начали разгонять демонстрантов, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. Вскоре после этого солдаты устроили рейд по палестинским населённым пунктам для того, чтобы арестовать протестующих, но столкнулись с вооружённым сопротивлением.
Однако история первой интифады также знает и огромное количество примеров ненасильственного сопротивления. Значительную роль в интифаде сыграло «Объединённое Национальное Командование». Члены этой группы распространяли листовки в палестинских кварталах, призывая население бойкотировать товары израильского производства. Спустя 2 месяца интифады, в феврале 1988 года, военная администрация «в целях безопасности» на время закрыла порядка девятисот палестинских школ. Палестинские учителя на полулегальном положении продолжили обучать детей у себя на дому, лишь бы молодёжь не проводила слишком много времени на улице. Во время интифады палестинцы демонстративно отказывались предъявлять удостоверения личности на контрольно-пропускных пунктах, а многие сжигали их на глазах у солдат. Среди лидеров восстания было немало женщин. Наила Айиш, студентка, написала коммюнике, в котором проповедовала лишь мирные методы борьбы — от забастовок до сидячих демонстраций. Рабиха Диаб на протяжении года занималась мобилизацией демонстрантов перед шествиями. А Захира Камаль, арестованная за 10 лет до начала интифады за связи с левыми группировками, была рупором палестинского сопротивления в международной организации ЮНЕСКО.
В начале 1988 года премьер-министр Израиля Ицхак Рабин привлёк внимание широкой общественности заявлением о том, что израильская армия будет использовать «силу, мощь и избиения». Он приказал солдатам «ломать кости» палестинским демонстрантам, после чего Мубарак Авад — человек, за которым закрепилось прозвище «арабский Ганди» — организовал для группы израильтян посещение больниц, где израильтяне лицезрели палестинских детей с переломанными конечностями. За пять лет до начала интифады Авад основал «Палестинский центр изучения принципа ненасилия», в котором исследовались разные тактики ненасильственного сопротивления израильской оккупации, применявшиеся затем палестинцами во время первой интифады. Спустя полгода после начала интифады Мубарака депортировали из страны за подстрекательство к восстанию и распространение листовок антигосударственной направленности.
«Но как же обстоит дело сегодня?» «Ведь в новостях только и слышно о ракетных обстрелах израильских территорий и нежелании палестинцев идти на компромисс!»
Если бы всё в этом мире было так просто, как об этом вещают в новостях… На самом деле вплоть до сегодняшнего дня палестинцы не пренебрегают ненасильственными методами сопротивления. Политические активисты Гассан Андони, Мустафа Баргути, Жамаль Жумаа, Абдалла Абу-Рахме и многие другие призывают к организации исключительно мирных протестов. Демонстранты из деревни Наби-Салех уже иронизируют, что скоро научатся дышать слезоточивым газом, так как армия на протяжении нескольких лет применяет его с нуждой и без таковой. Аналогичная ситуация в деревне Биль-Ин, где еженедельно проводятся демонстрации против разделительного барьера, построенного недалеко от деревни в 2005 году. Один из жителей деревни — Эмада Бурнат — на протяжении пяти лет снимал происходящее, после чего мир увидел документальный фильм под названием «Пять разбитых камер». В 2011 году картина была по праву номинирована на премию Оскар в категории «лучший документальный фильм». Тем не менее, как показывает практика, ненасильственное сопротивление не находит успеха и во многих случаях просто жестоко подавляется. В 2009 году на одной из демонстраций в Биль-Ине израильский солдат убил 32-летнего активиста Бассема Абу-Рахме, запечатлённого на кадрах фильма. В 2003 году в Газе израильский бульдозер заживо переехал американскую волонтёрку Рэйчел Корри, протестовавшую против сноса домов местных жителей. Спустя несколько недель Тайсир аль-Хайб — израильский снайпер арабского происхождения — выстрелил в голову Тому Хёрндэлу, волонтёру, приехавшему в Сектор Газа из Великобритании. Он скончался спустя 9 месяцев в одном из лондонских госпиталей. Год назад, во время «Великого марша возвращения», снайпер убил 20-летнюю медсестру Раззан ан-Наджар, которая не представляла никакой угрозы для вооружённых солдат. Мухаммад Амира — пацифист, довольно известный в палестино- израильских кругах, один из основателей центра памяти Холокоста на Западном Берегу. На одной из пятничных демонстраций два года назад он получил резиновую пулю в голову и теперь, по всей видимости, остаток своей жизни проведёт в инвалидной коляске. Список погибших или искалеченных демонстрантов можно продолжать бесконечно. Это не единичные случаи, а систематические репрессии правительства, высшего командования и судебной системы.
Так что палестинское сопротивление — это не только хулиганы в масках, жгущие покрышки. Это не только террористы-смертники, образ которых так раскручен в средствах массовой информации.
Палестино-израильский конфликт не без основания называют последней колониальной войной нашего времени. Он зародился как противостояние между поселенческим движением, прибывшим из Европы, и коренным населением Палестины.
На рубеже XIX и XX веков термин «колониализм», пожалуй, ещё не имел столь негативного оттенка, нежели сегодня, и использовался многими сионистскими предгосударственными институтами. «Еврейское колонизационное общество», созданное несколько десятилетий спустя «Палестинское еврейское колонизационное общество», «Еврейский колониальный трест», «Еврейский колониальный банк»… Подобные организации, заручившись финансовой поддержкой богатейших кругов еврейской диаспоры, под покровительством арабских лендлордов и политических элит начали осуществлять политику вытеснения местного населения. Результатом этого стал так называемый «Ближневосточный конфликт».
Для того, чтобы разобраться в сути этого конфликта, необходимо рассматривать его в плоскости колониализма. Религиозные, национальные и другие противоречия имеют второстепенное значение.
Колониальный характер сионистского государства сохраняется по сей день. На протяжении семидесяти лет своего существования государство Израиль сменило несколько десятков правительств. Тем не менее, репрессивная политика, непрекращающаяся военная оккупация Палестины и тесные связи политического истеблишмента с мировым империализмом являлись атрибутом каждого из этих правительств, вне зависимости от принадлежности премьер-министра к тому или иному политическому лагерю. Сионизм, будучи формой буржуазной идеологии, смог добиться консолидации израильского общества, смог добиться солидарности между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Поэтому, несмотря на все противоречия, присущие государству Израиль, за 70 лет его существования не произошло ни одного мощного социального конфликта: ни революций, ни гражданских войн. Голоса немногочисленных израильских леворадикалов попросту не находили отклика в лояльной и подконтрольной массе.
Весьма вероятно, что палестинский вопрос будет разрешён в рамках более глобального процесса социальной революции на Ближнем Востоке. Сегодня мы являемся свидетелями пробуждения народных масс в Сирии, Ираке, Ливане и прочих странах региона. Активисты несут серьёзные потери, но вместе с этим растёт их политический опыт, который в будущем непременно сыграет свою роль.
Палестина — как и прочие страны Третьего мира — является очагом будущих глобальных изменений. Революционный потенциал народов, прозябающих на дне мир-системы, обездоленных и угнетённых, рано или поздно найдёт своё воплощение. И тогда не окажется ни одного человека на Земле, который бы не увидел и не осознал этого.
31.01.2025
↑